Русские символисты - [11]
В своих позднейших книгах Бальмонт любит повторять ницшеанские заветы:
______
любит с гордостью уверять в своем блаженстве:
_____
Но в эти восклицания врываются неожиданные слова:
Откуда эти слова? Как поэт, только что презрительно спрашивавший: «Что бесчестное, честное», вдруг ужаснулся «преступлений», вдруг отступил перед «страшным я»?
Всмотримся ближе в случайные признания Бальмонта, в те, которые проскользнули у него, так сказать, между строк.
______
______
______
Значит, Бальмонт таки знает, что бесчестное, что злое, что такое беспутство (значит, и добродетель), где высота и где дно. Его художник-дьявол восклицает гордо:
Но из этого следует, что для всех других «законы», т. о. моральные нормы, есть. Герой поэмы Бальмонта «Заклятие» мучится грехом, который он совершил ребенком (он замучил и убил лягушку), — значит, Бальмонт не стоит «по ту сторону добра и зла», но знает и грех, и совесть, и раскаянье…
И вот оказывается, что юношеское, бессознательное миросозерцание Бальмонта не изменилось. Его детские, наивные взгляды на добро и зло остались с ним на всю жизнь. Те причины его печали, которые подсказали ему грустные его песни «Под северным небом», измениться для него не могли. И, может быть, вся философия Бальмонта укладывается в вопросе, обращенном им к творцу со страницы первой книги стихов:
Позднее сознательность увлекла его к идеалам силы и радости. Бальмонт, заветное убеждение которого в том, что господь «создал рай, чтобы изгнать из рая», который божественное видеть способен лишь «в сопутствии скорби», который рожден был, чтобы жить «под северным небом», — захотел стать поэтом Солнца, слагать гимны Огню, славить на земле Ужас. Он, сказавший однажды:
пожелал быть поэтом языческой Красоты и проповедником завета одного араба «знать, хотеть, молчать и сметь», пожелал
Силой своего стихийного дарования Бальмонт до известной степени восторжествовал в этой борьбе против самого себя. Он вырвал у своей лиры могучие звуки надменных ликований, «хохота демона» («хохот демона был мой»), проклятий «святым» («Я ненавижу всех святых»). Эта борьба психологически глубока и замечательна, но победа в ней Бальмонта могла быть лишь временной. Его торжество должно было кончиться новым падением, потому что по самой сущности своей души — он печаль предпочитает радости, сумрак — свету, тишину — бряцаниям литавров.
Это падение (не в смысле ослабления художественной силы) мы и находим в сборниках «Только любовь» и «Литургия красоты». Здесь песни радости и проповедь ницшеанских идеалов оказываются гораздо более слабыми, чем напевы грусти и тихой жалобы. Призывы к веселию кажутся вымученными, стихийные гимны — риторическими. Напротив, такие стихотворения, как «Безрадостность», «Безглагольность», «Подневольность», «Царство тихих звуков», «Отчего мне так душно», «Умирающий», — принадлежат к числу лучших перлов лирики Бальмонта. И самыми искренними его стихами, — искренними в высшем смысле слова, — останутся его песни о возврате:
________
В этих напевах тоскует истинная душа Бальмонта, поэта нежности и кротости, который пожелал стать певцом страстей и преступлений.
В конце концов мы не поверим Бальмонту, когда он говорит нам, что «силою внутренней неизбежности» его творчество из-под северного неба «подошло к радостному свету, к огню, к победительному солнцу». Он, действительно, вступил в эти области, но в душе его глубоко были заложены элементы непримиримого разлада. Миросозерцание Бальмонта — бессознательный дуализм, и в борьбе Зла и Добра, дьявола и бога, должна она неизбежно изнемочь и увидеть свое бессилие. Все последние произведения Бальмонта — или мучительные жалобы на мировой разлад, или насильственные, не убедительные уверения, что он «целей» («Как безраздельно целен я!»), что он «мгновенен» («Как я мгновенен, это знают все!»), что он счастлив («Я не устану быть живым!»).
Обращаясь к «бледным людям», Бальмонт восклицает в одном из своих «Приближений» (отдел в книге «Только любовь»):
Это сознание никогда не покидало Бальмонта; и напрасно он, в поисках «новых чудес», «из-под северного неба уходил на светлый Юг» (стих «Безбрежности»). В краю «волшебном и чужом» видел он над собой все то же «единое» небо — небо грусти и тоски. И напрасно от своей веры в добро и любовь он уклонялся к извращенной красоте чудовищного и преступного; все тот же кругозор замыкал его мечты, только тяжелее ему дышалось в чуждой атмосфере. У него не было сил Бодлера, чтобы, создав вокруг себя иной мир, все в нем подчинить законам своей мечты, и не было бессилия Верлена, чтобы в чужом мире забыть об утраченном рае. Подобно герою Баратынского, он остался «крылатым вздохом», что носится «меж землей и небесами».
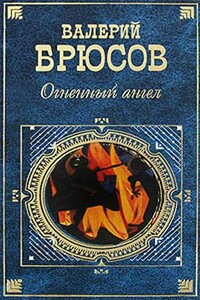
Один из самых загадочных русских романов ХХ века, «Огненный ангел» Валерия Брюсова – одновременно является автобиографическим, мистическим и историческим. «Житие» грешников – оккультистов, жаждущих запредельных знаний, приводит их либо к мученической смерти, либо к духовной опустошенности, это трагический путь Фауста, но в какой-то мере это и путь нашей цивилизации.
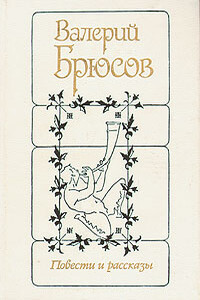
Долгие годы мужчину и женщину связывала нежная и почтительная дружба. Но спустя пятнадцать лет страсть вырвалась из оков…http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лекция, читанная автором в Москве, 27 марта 1903 г., в аудитории Исторического музея, и 21 апреля того же года, в Париже, в кружке русских студентов.

Статья в специальном № «Северо-Европейского вечернего вестника»«... За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, все были поражены психическим расстройством. Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех достоверных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе.

«По выбору тем, по приемам творчества автор явно примыкает к «новой школе» в поэзии. Но пока его стихи только перепевы и подражания, далеко не всегда удачные. В книге опять повторены все обычные заповеди декаденства, поражавшие своей смелостью и новизной на Западе лет двадцать, у нас лет десять тому назад…».

«…Итак, желаем нашему поэту не успеха, потому что в успехе мы не сомневаемся, а терпения, потому что классический род очень тяжелый и скучный. Смотря по роду и духу своих стихотворений, г. Эврипидин будет подписываться под ними разными именами, но с удержанием имени «Эврипидина», потому что, несмотря на всё разнообразие его таланта, главный его элемент есть драматический; а собственное его имя останется до времени тайною для нашей публики…».

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».