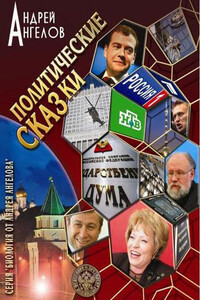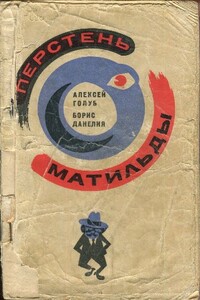Краусс подошел к правой голове и начал заранее подготовленную речь на ломанном русском языке. Когда через два часа он закончил, обнаружилось, что все угрозы и посулы пропали даром — это была самая глупая голова. Она ничего не поняла и твердило одно:
— Я как все…
Вторая голова выслушала речь фашиста с вниманием и удовольствием, несмотря на то, что язык оратора к концу второго часа заплетался. У второй головы была шкурная мелкая душонка, которую интересовала только сытная еда, к тому же она всегда норовила заснуть во время политинформации и чтения романа „Чапаев“.
Краусс думал, что уже добился успеха, но когда он нетвердой походкой приблизился к третьей голове и попытался начать речь, она так полыхнула пламенем, что стоявший нагатове солдат едва успел направить в пасть струю из пеногона…
Минутой позже эсэсовец рассматривал в зеркало свои опаленные брови, а наглотавшаяся пены голова заходилась в мучительном кашле. Это была голова настоящего патриота.
Взбешенный фашист велел морить ее голодом, а остальные две кормить до отвала. Только через неделю он вспомнил, что желудок у всех общий. Проклиная себя за тупость, эсэсовец приступил к пыткам. Боль тоже была общей, и после каждого сеанса головы матерно ругали друг друга, отстаивая свои позиции, но к единодушию, без которого Горыныч и шагу ступить не мог, они так и не пришли.
В тот день, когда Краусс получил за проволочки нагоняй с угрозой отправки на восточный фронт, он понял, что надо делать. Бесстрашная голова, в которую глубоко запали герои великого романа, была зверски отрублена, а две оставшихся встали на позорный путь предательства.
Целый месяц схваченных допрашивали по отдельности. Не добившись никаких результатов, фон Клюге решил устроить очную ставку. Дюжие гестаповцы по очереди ввели Вия, Василису и Кощея; руки патриотов были связаны за спиной, а на Кощее были наручники. Он уже два раза во время допросов устраивал крепкие потасовки — надолго запомнят его беззубые гитлеровцы. Фон Клюге предоставил вести допрос переводчику, а сам на всякий случай сел в углу.
— Узнаете друг друга? — пролаял Швайнер.
Вий остался безучастно стоять с опущенными веками, а Кощей с Василисой напряженно переглянулись.
Одежда на обоих подпольщиках висела клочьями, но Бессмертный все равно выглядел молодцом — на крепком поджаром теле ни царапины; голод и пытки его нисколько не изменили. Василиса, которой пришлось гораздо хуже, с завистью смотрела на Кощея, не ведавшего ни боли, ни страха. Потом оба отрицательно покачали головой.
— Шмутцер фанатикен! — выругался вспотевший гестаповец, слегка присвистывая сквозь выбитый зуб. Он вскочил из-за стола и показал Кощею издали листовку:
— Кто это писал?
Швайнер побоялся приблизиться, помня, как принял смерть от Кощеевой ноги втоптанный в пол плюгавый Вилли. Хозяин явки презрительно промолчал, и тогда гестаповский переводчик повернулся к Василисе:
— Тфой?
Измученная подпольщица вяло взглянула на толстые, с грязными ногтями пальцы Швайнера, сжимающие листовку, и вдруг в ее сознании сверкнула поразительная мысль. Василиса кивнула головой в сторону Вия и с трудом разлепив спекшиеся губы прошептала:
— Это… его… работа…
Гестаповец замер в удивлении оттого, что подпольщица наконец заговорила, а потом бросился к Вию.
— Это ты писал?! Ты? — визгливо закричал он, тыча листовку в железное лицо партизанского командира.
— Поднимите мне веки. Не вижу, — ответил Вий, и разом бросились гестаповцы подымать ему веки. Кощей и Василиса привычно зажмурились…
Конец