Русская Венера - [107]
Спускаемся с Икской горы, приводившей раньше на весело скрипевший деревянный мост, а теперь тормозим у насосной станции в виду затонувшего парохода (труба торчит да капитанский мостик) и вот этого вечного отныне осеннего половодья с редкими стогами на последних, не залитых пока луговых пригорках.
Потом плывем на лодке — утки поднимаются из-за каждого куста, но мы не стреляем: в лодке тесно, она утла и ненадежна, но от стесненного, рвущегося из нас азарта старенький мотор, кажется, стучит бойчее. Холодно, зябнут руки и уши, мы ежимся, опускаемся в воротники и постепенно застываем от ломотного студеного ветра. Николай вдруг протягивает ружье своему сыну Вадику:
— Ну-ка, берись за приклад покрепче. Гнуть сейчас будем.
— Чего гнуть? — не понимает Вадик.
— Стволы. Чтоб из-за кустов стрелять.
Пытаемся улыбнуться, но губы свело, и странно видеть и чувствовать, что вместо улыбок на лицах у нас синие кривые гримасы.
Пристаем к желтой гряде временного острова и расходимся, сразу согревшись в предвкушении вольного поиска и разящего взлета стволов.
Бреду вдоль стены луговой осоки, по щиколотку в воде, ружье закинул за спину — что-то не взлетают мои утки. День расходится: до солнца ветер еще не добрался, но самые тяжелые, жирные тучи разогнал, и день осветился предвестием солнца. Повеселели, позеленели бесконечные воды окрест меня, дальние ивы откликнулись тихо зажегшейся позолотой — соединялись на моих глазах не совсем исчезнувшие аксаковские картины с новым, затеянным его потомками пейзажем, нагоняя уныние неестественностью зрелища, невозможностью как-либо исправить его и жалким желанием спрятаться, уберечься от раздражительных размышлений, не оставляющих, так сказать, и на дне будущего моря.
Таким же мелководьем с равнодушным и неуместным плеском среди жаждущих цвести и плодоносить полей начинались Братское, Иркутское, Усть-Илимское водохранилища — я ходил по их дну, запоминая брошенные лиственничные боры, лесосеки, непомерные сосновые плоты, потом так и не всплывшие, черные многоверстные лужи на тучной илимской пашне, самой плодородной в Восточной Сибири…
Запоминал не для будущей горькой строки, не из склонности к праведнической риторике («Разве можно так с землей обходиться?!»), а из желания понять и совместить в себе молодой, удалой, с испариной азарта лик котлована, скажем, Братской ГЭС, сияние артельной праздничной истовости в глазах, когда каждый наперегонки норовил подсунуть свое плечо под любую тяжесть (то ощущение, может быть, самое дорогое из ощущений молодости), и сиротливые пространства, как будто никогда не растившие, не согревавшие, не утешавшие людей. Хотелось рассказывать о пьянящем трудолюбии котлована и с мимолетной стыдливостью хотелось отвернуться от илимской пашни: извини, по-другому ГЭС пока не научились строить, так надо — страдай не страдай. Пашни исчезли вроде бы бесследно и покорно: работайте, покоряйте, если так надо, — но постепенно выяснилось, что невозможно строить и разрушать одновременно, затопленные земли живут в нас; боль, причиненная им, воскресает в нас стыдом и растерянностью: как легко и бездумно мы с ними расстались, не попытались спасти их, выгородив дамбами и плотинами, не подозревая, что дешевизна строительства обернется неокупаемыми нравственными затратами.
Мы утешались неотвратимостью «надо» — оно как бы освобождало нас от раздумий и личной ответственности: действительно, надо перекрыть реку, пусть крутит турбины, без энергии не обживешь и не обустроишь тайгу; мы надеялись, что земля, подчинившись нашему «надо», не будет уже досаждать нашей совести, но по прошествии времени мы обнаруживаем, что Байкальский целлюлозный завод можно было не затевать. И в то же время мы выясняем, что Чебоксарское водохранилище разгородили дамбами и плотинами, сохранив пастбища, луга и пашни.
Надо, согласен, надо. Но почему каждое «надо» отзывается такой резкой болью, почему осуществленность, воплощенность этого «надо» не заслоняет, не примиряет меня с потерями — озерами, пашнями, лесами, определенными в жертву «надо»? Потому, видимо, что, чем больше годовых колец я набираю, тем яснее: не спрятаться за всевозможные «нас не спрашивали», «меня не слышали», «а что я мог», не оправдаться никакими «надо», если плата за них окорачивает мое гражданское достоинство. Если даже меня не спрашивали, меня не слышали, все равно не отменяется мое огрузшее от сомнений, несогласий, предположений сердце — в историческом протяжении, в сущности, и не бившееся, — и я отвечаю за каждое «надо», за каждую его трещину и кривизну. Пусть моя ответственность не учтена, пусть о ней никто не знает, но она существует параллельно с «надо», заставляет душу напрягаться и болеть…
Вот иду я, рядовой гражданин, по новорожденным волнам и изнываю от нелепого желания: набраться бы такого голоса, такой громкости и силы, что при крике «Не надо так!» воды бы непременно отступили. Понимаю, мое желание, мое «нет» легко глушится командорскими шагами экономики, которая, наверное, не может и не должна слышать отдельного чувства, отдельного голоса, сколь бы горек и трезв он ни был, тих и слаб, как шепот несчастного влюбленного, этот голос и, конечно же, пропадает в многоголосье державных забот и тревог — тем не менее тешишься надеждой: вдруг да услышат. Надежда эта неискоренима: в течение жизни много раз смиряешься с недолговечностью слова, с его какою-то призрачной судьбой: писалось, было, на чем-то настаивало — и постепенно сходило на нет, тонуло в житейском море, вроде бы никого не защитив и ни на чем не настояв. Но не могло же оно исчезнуть совсем, без следа и без шороха? Где-то остановилось, передыхает, набирается на привале свежести и полногласия — надежда быть услышанным вновь расправляет крылья, и легкий ветерок обдает тебя.
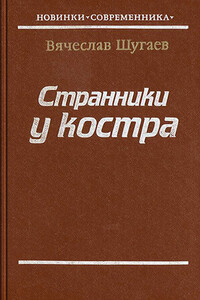
Герои этой книги часто уезжают из дома; одни недалеко, как в повести «Мальчики из Майска», другие за тридевять земель (повесть «Странники у костра»), чтобы оглянуться на свои дни — так ли живут? — чтобы убедиться, что и в дальних краях русские люди деятельны, трудятся азартно, живут с верой в завтрашний день. А Иван Митюшкин из киноповести «Дмитровская суббота» вообще исколесил всю страну, прежде чем нашел свою судьбу, свою горькую и прекрасную любовь. И сам автор отправляется в поля своего детства и отрочества (рассказ «Очертания родных холмов»), стремясь понять ностальгическую горечь и неизбежность перемен на его родине, ощутить связь времен, связь сердец на родной земле и горячую надежду, что дети наши тоже вырастут тружениками и патриотами.

Дед Пыхто — сказка не только для маленьких, но и для взрослых. История первого в мире добровольного зоопарка, козни коварного деда Пыхто, наказывающего ребят щекоткой, взаимоотношения маленьких и больших, мам, пап и их детей — вот о чем эта первая детская книжка Вячеслава Шугаева.
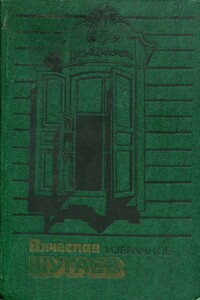
В книгу лауреата Ленинского комсомола Вячеслава Шугаева «Избранное» входят произведения разных лет. «Учителя и сверстники» и «Из юных дней» знакомят читателя с первыми литературными шагами автора и его товарищей: А. Вампилова, В. Распутина, Ю. Скопа. Повести и рассказы посвящены нравственным проблемам. В «Избранное» вошли «Сказки для Алены», поучительные также и для взрослых, и цикл очерков «Русские дороги».

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
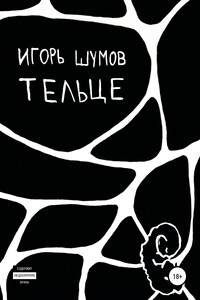
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).