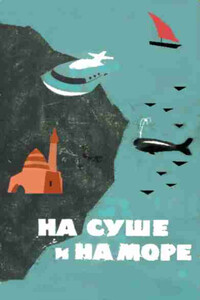Русская религиозная аксиология - [8]
Соловьев был убежден в том, что прогресс общества возможен лишь тогда, когда народ повернется лицом к «преданию» отцов, т. е. к ценностям национальной культуры. Этот религиозно-нравственный идеал, по Соловьеву, предполагает воспитание в каждом русском человеке чувство священного благоговения перед Родиной, ее прошлым, настоящим и будущим. При этом, как он подчеркивал, «наш национальный дух осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него»[41].
Следует отметить, что высшие духовные ценности-идеалы действительно определяют изнутри всю духовную жизнь человека, духовную жизнь общества. Сама же «духовная жизнь» дается нам, по словам С. Л. Франка, «в форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся», а общественное бытие и есть «внешнее выражение и воплощение» этой духовной жизни. А потому, заключает он, «общественная жизнь по самому существу своему духовна, а не материальна… История есть великий драматический процесс воплощения, развертывания во времени и во внешней среде духовной жизни человечества, выступления наружу, и формирующего действия сверхчеловеческих сил и начал, лежащих в глубине человеческого существа»; поэтому «общественное бытие есть именно двуединство этой внутренней духовной жизни с ее внешним воплощением»[42].
Франк также как и Соловьев подчеркивал непреходящую роль ценностей-идеалов в жизни общества: «История общества в качестве истории духовной жизни есть драматическая судьба Бога в сердце человека». Общественное бытие есть всегда нечто большее, нежели имманентное выражение чисто человеческих страстей и субъективных стремлений: «человек на всех стадиях своего бытия, во всех исторических формах своего существования есть как бы медиум, проводник высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает, – правда, медиум не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих начал»[43].
Каковы же эти «высшие начала и ценности»? Для нас не подлежит сомнению, что Франк имеет в виду именно ценности-идеалы, определяющие цели жизнедеятельности человека, поскольку он связывает их с «категорией должного». По Франку, «должное есть первичная категория». Она «выражает подчиненность человеческой воли высшему, идеальному, абсолютно обязывающему началу». Это «абсолютно обязывающее начало» и есть идеал. Этот идеал есть «образцовая идея», «идея-образец», смысл которой заключается в том, что она есть цель человеческой воли. Как «идеальное начало», как «образцовая идея» она «телеологически определяет человеческое поведение в качестве идеала или «должного», осуществляемого в общении»[44].
История, с точки зрения С. Л. Франка, есть драматический процесс смены отдельных отвлеченных идеалов, из которых каждый в своем осуществлении обнаруживает свою односторонность (тем самым свою несостоятельность) и поэтому уступает место другому. Человечество увлекается каким-либо одним идеалом (который выдвигается либо эмпирическими нуждами жизни, либо духовным состоянием времени), отдает его осуществлению все свои силы, но, осуществив его, неизбежно в нем разочаровывается и начинает искать что-либо новое, часто прямо противоположное предыдущему его верованию. На самом деле, по Франку, «общественная жизнь, будучи в качестве духовной жизни жизнью в Боге, имеет своим единственным конечным назначением осуществление своей истинной онтологической природы во всей ее конкретной полноте, т. е. "обожение" человека, возможно более полное воплощение в совместной человеческой жизни всей полноты божественной правды»[45].
Конечно, духовные ценности оказывают воздействие не сами по себе, а воздействуя на духовный мир личности и социальных общностей, формируя их картину мира и тем самым определяя поведение и деятельность. Однако при этом сама духовная жизнь, высшие духовные ценности, их неповторимая для каждого народа совокупность во многом предопределяют судьбу данного народа, судьбу страны.
Высокие духовные ценности, святыни русского человека – вот та духовная сила, которая не раз спасала наше Отечество. Выражением этой силы в свое время стала русская икона. В своих размышлениях о древнерусской иконописи Е. Н. Трубецкой показывает, что икона была фактически «выстрадана» поколениями наших предков, она стала явлением «той самой благодатной силы, которая некогда спасла Россию»[46]. Так, в дни великой разрухи и опасности преподобный Сергий собрал Россию вокруг воздвигнутого им в пустыне собора св. Троицы. В похвалу святому Андрей Рублев «огненными штрихами начертал образ триединства, вокруг которого должна собраться и объединиться вселенная». С этих пор данный образ не переставал «служить хоругвью», вокруг которой собирается Россия в дни великих потрясений и опасностей. И не только в одной рублевской иконе, во всей иконе XV века звучит этот призыв. Однако есть в этой иконописи, отмечает Трубецкой, и нечто другое, что преисполняет душу бесконечной радостью – это образ России обновленной, воскресшей и прославленной. Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку родину. Мы и сейчас живем этой надеждой, писал Е. Н. Трубецкой в начале 1918 г.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.