Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) - [47]
Город смутный, город, в котором так часто зима, снег, или осень с дождём. Город негромкой речи, огромной реки, облупленных дворцов.
Я войду в волшебный
Мутный полусвет,
Прокричу в служебный
Телефон: «Привет!»
…
И через две строфы
Ни дверей, ни друга,
Ни его руки, –
Только мгла да вьюга
С ледяной реки
И рукой подать отсюда, от этих серых громадных домов, от дворов колодцев, от асфальтовой воды до всечеловеческого, до самых основ нашей культуры.
Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.
P.S. Да, Кушнер равен себе. И в его совсем недавних стихах появляется сахарница, которая досталась ему в наследство от Лидии Яковлевны Гинзбург. И эта сахарница живёт теперь с ним, но помнит прошлое, и в этой вещной предметной памяти Кушнер.
И эта память — бессмертие.
Я всё-таки её взял в руки на мгновенье,
Тяжёлую, как сон. Вернул, и взгляд отвёл.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
28. ЗА ГРАНЬЮ ТРАГЕДИЙ (Наталья Горбаневская)
В любой трагедии есть какое-то ощущение выхода. Пусть не для героев — для зрителя и читателя. Само созерцание трагедии дает нечто зрителю — в силу ли сравнения грандиозных чувств на сцене со своими, в силу ли чего другого неведомого, но то, что Аристотель назвал катарсисом безусловно существует. Так по законам парадоксов — а по ним вся наша психика построена — безнадежность приносит надежду.
Так было отвеку… Но вот какой отклик вызывают такие стихи?
Не выплыву, не доплыву.
На облаках, как наяву,
роняют чайки плач в Неву,
и этот сизый хрип,
и эти капельки свинца,
где нет ни смерти, ни конца,
где целят в бедные сердца,
но не достанут их.
Это ощущение трагедии, лишенной даже естественного трагического финала. Когда даже смерть — и та уже не существует.
В стихах Натальи Горбаневской речь идет о времени, отнявшем даже право на "нормальную" гибель. В стихах из сборника "Три тетради" — доминирующий образ — зеленая вода, непрозрачная вода. Она колышется, но она мертвая. Вода Леты. Она за пределами всего, даже за пределами небытия. И только есть голос, уже переставший страдать, поскольку страдание ведь тоже жизнь!
А тут — и смерть уже за спиной. Природа тоже запредельна, как всё в этой черно-зеленой акварели:
Заря звезды висит, как будто в петлю
продела голову, кровавы дерева,
но первая роса по-прежнему права,
но лик земли с заоблачностью сцеплен.
Или
Сон — это сонная, вязкая река,
где в водорослях вёсла не лёгки и не звонки,
Или еще
На воде, все равно что нигде
Главная пружина, главный конфликт всех этих стихов, звучащих в мире, где и безнадежность сама потеряна: «Сожалею, значит — живу, там, где и воспоминания о существовании быть не может.»1'
Зеленый омут — это время. То, которого уже нет. Словно эти стихи о послеапокалиптических временах. И сквозь воду, или звездную муть виден "ангел огненный, ангел с мечом, с автоматом" Вот примета мира, в котором мы живем. Ангел сторожит ворота Рая… И здесь поэт — "соловей, ударенный под вздох" — задает себе вопрос:
Что там за дверью, в глубине в душе,
Где даже пятна света не ложатся?
За всеми пределами живо только одно: любовь.
Пока она есть — даже в этой немыслимой запредельности можно если не всплыть, то — уплыть. В себя… Но и любовь тут — скорее уход от любви, чем она сама.
Всё. С концами. Не в этой жизни
островной
повстречаешься въяве и вживе
ты со мной,
только парус кружит и пружинит
над волной
Ахерона.
Вот и назван Ахерон. Мы уже ждали его, как Стикс и как Лету… Но каков же мир видимый, "реальный"?
Или точнее — что было толчком для создания этих запредельных картин? На это ответ — одно стихотворение, выключенное из той системы образов, о которой до сих пор шла речь
Оно в некотором смысле и есть ключ к расшифровке того мертвого мира, в котором бьется под толщей зеленой воды живая любовь:
Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.
И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.
Душа — кольцо парашюта, последняя надежда, но он никак не раскрывается… И любовь тоже не спасти, а потому –
Я сама
никому не отправлю письма,
никому
не пошлю телеграмму во тьму.
Времени давно не существует. Мир уже прошел через Армагеддон.
Если от ранних стихов Горбаневской оставалось впечатление, что мир пространственный как пол и потолок в комнате — сжался, превратился в точку, то теперь — в точку сжалось и время. А старинная любовь, что влечет на дно, существует только вне среды… Вне мира.
Неправомерно было бы образы, несущие духовную волну этих строк, называть пейзажем. Пейзажа у Горбаневской не бывает. Это только тени деревьев или звёзд, только тени потусторонних рек, текущие в ритмах античного гекзаметра… Поэтому тютчевское "мысль изреченная есть ложь" — для Горбаневской априорно и бесспорно определяет все возможные способы выражения.
И тут возникает пушкинский вопрос: "Куда ж нам плыть?" В детство? Против течения времени? А почему бы и нет, ведь время уже не течет…

Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил,Что до могилы донесуБольшие сумерки Парижа.Илья Эренбург.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
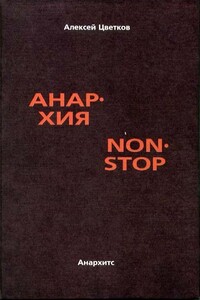
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.
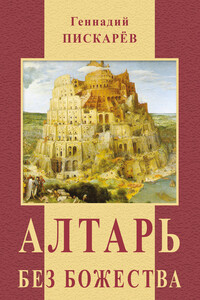
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.