Русачки - [4]
Безупречный метод, который с энтузиазмом восприняли полицаи, фараоны, жандармы и французская моторизованная гвардия — отсталые племена, конечно, но преисполненные доброй воли и податливые к прогрессу, стоит только им объяснить.
Внедрил-таки я насильно длиннющий скелет свой в купе для приличных людей. Приличных, но не богатеньких. Вагон этот ходит еще с войны семидесятого>{4}. Весь деревянный. Сиденья деревянные, из очень твердого дерева. Колеса деревянные небось тоже, но я не проверял. Во всяком случае, овальные. То, которое вихлялось под моим сиденьем, даже наверняка было четырехгранным. Оно так же сварливо толкало меня под ягодицы, как те самокаты, которые ребятишки с улицы Святой Анны мастерили из старых шарикоподшипников, выклянченных в гараже у Кордани, на улице Лекен, насаженных ударами каблуков с обеих сторон двух перекладин, прибитых под доской; скатывались пацаны на этой штуковине во весь дух по буржуйским, аккуратно заасфальтированным улицам прямо к Марне, грохот стоял адский, жопы в занозах; Нино Симонетто, лежа на животе, чешет, головой вперед, между колесами грузовиков, вылетает с другой стороны: «Эй, парни, видали такое.«Однако ж, — говорит мать, как ей кажется, по-французски, — надо его понимать, ведь он перенеш трепанацию черепа, когда был бамбино, так сто с голловой у него — не все дома, потому сто вот. Но он не жлой, ничутто не жлой, дуракко только, этто да, а такко не жлой, ничутто…»
Куда это меня занесло? Далеко она, наша улица Святой Анны, за тысячу километров уже небось, а детство мое еще дальше. Вот и уселся на деревянное сиденье, выточенное точно по контуру человеческой задницы, для достоинства это лучше, чем дощатый пол в вагоне для скота, ну а насчет комфорта — напрасно надеялся. Зажаты мы вшестером в одной полке на четверых, напротив меня — высокий курчавый белобрысый парень, переросток, растерянный, как теленок, только что отлученный от матери, пугливый, грустный до смерти, такой грустный, что даже спит грустно, а спит он все время. Все мы пытаемся спать, но ему хотя бы это удается. Взвалил он на меня свои ботинки, здоровенные бутсы, бронированные носорожьей кожей, насаженные, как молотки, на концы его худых бесконечных карандашей, сварганенных целиком из массивной мозговой кости, с наклеенной сверху кожей, положил он их мне на ляжки, вперил в живот, прямо в мякоть, а до этого, гад этот, вляпался в дерьмо полным лаптем, я только что это понял, вдруг, — откуда это так разит, — и вот у меня весь этот пласт желтой срани прямо под носом, и плащ весь, все лапы в ней замарал, так я старался сбросить с себя эти его говенные ботинки, здоровенного такого засранца, — так вот откуда воняет, и вдруг соображаю, что наверно и рожу себе изгадил, стремясь заслониться от света.
Никому не сдвинуться, — ни мне, ни ему, — никому! У каждого ноги на ляжках соседа напротив, двое-трое лежат на полу между сиденьями, под сводом из человеческих ног, не считая тех, кто устроился в багажных сетках. Коридор набит так же. Ссым мы все в миску по очереди и передаем ее из рук в руки. Опорожняется миска через окно. Чтобы посрать, — и речи не может быть. Если от этого его ботиночного дерьма меня в конце концов начнет рвать, плеснет это прямо, горизонтально, — а уж в кого попадет, тому и достанется. Попробуй засни тут… Что мне запомнилось от этого путешествия, так это прежде всего запах раздавленного дерьма, да башка этого здоровенного растерянного младенца, его совершенно трехнутый вид, каждый раз, когда толчок вагона будил его и он неожиданно приходил в себя.
Тормоза пищат, железки громыхают, пар сплевывается, буфера стукаются… Еще несколько рывков — и полная неподвижность, и тишина. Вот и опять стоим. В трехсотмиллионный раз. Застряли в гнилом захолустье. Трехсотмиллионное гнилое захолустье в этой гнилой стране. Один их тех, кто ближе к окну, орет, весь возбужденный: «Эй, парни!» Значит, что-то еще может кого-нибудь возбуждать в этом сером брандохлысте? Да я и смотреть не стану! Смотреть нечего. Одна только серость. Земля, небо, бараки, шмотье, ряшки… Серость сочится водой. От одной только мысли об этом она уже льет за шиворот, просачивается между пальцами ног. Передергиваюсь. Германия серая и промокшая, как шарфик на шее бродяги. Как им не грезить войной в такой дыре?
— Эй, парни!
Настаивает. Кто-то бросает взгляд, орет в свою очередь:
— Вот это да, парни! Надо же!
А потом:
— Военнопленные! Эй! Военнопленные!
Тут и я тоже хочу взглянуть. Оттираем запотевшие стекла и видим. Здесь еще хуже, чем все остальное. Кучи угля толпятся, высоченные, как горы, покуда хватает глаз. Какие-то подобия неудавшихся Эйфелевых башен, подъемные краны, перекидные мостки, железные балки, подъемники, лебедки, шкивы, цепи, вагонетки, бред из крестовидных железяк со здоровенными заклепками, и разит от всего этого сраным трудом, неумолимым часовым оком заводской проходной в раннее грязное утро… Зловещие кирпичные стены с зубчатыми вырезами. Горизонт зубчатый. Трубы-колоссы, плотно стоящие, зловещие, наглые, дристающие, давящие мир. Небо черное. Выходит оно из труб. Трубы сблевывают его черноту и размазывают ладонью, как грязь. Все здесь черно, все. Проведешь пальцем по пейзажу — и палец останется черным и жирным. Сажа и деготь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
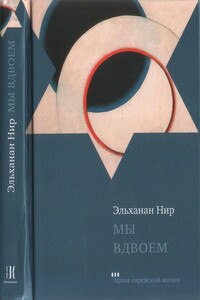
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
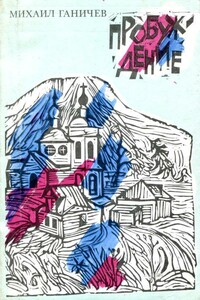
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Роман-завещание Джозефа Хеллера. Роман, изданный уже посмертно. Что это?Философская фантасмагория?Сатира в духе Вуди Аллена на нравы немолодых интеллектуалов?Ироничная литературная игра?А если перед вами — все вышесказанное плюс что-то еще?
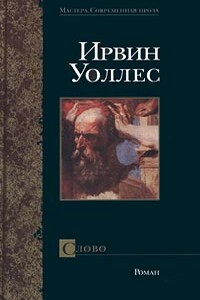
Как продать... веру? Как раскрутить... Бога? Товар-то — не самый ходовой. Тут нужна сенсация. Тут необходим — скандал. И чем плоха идея издания `нового` (сенсационного, скандального) Евангелия, мягко говоря, осовременивающего образ многострадального Христа? В конце концов, цель оправдывает средства! Таков древнейший закон хорошей рекламной кампании!Драматизм событий усугубляется тем, что подлинность этого нового Евангелия подтверждается новейшими научными открытиями, например, радиоуглеродным анализом.
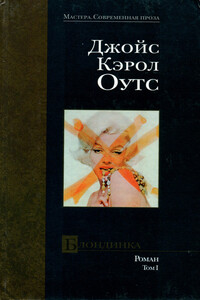
Она была воплощением Блондинки. Идеалом Блондинки.Она была — БЛОНДИНКОЙ.Она была — НЕСЧАСТНА.Она была — ЛЕГЕНДОЙ. А умерев, стала БОГИНЕЙ.КАКОЙ же она была?Возможно, такой, какой увидела ее в своем отчаянном, потрясающем романе Джойс Кэрол Оутс? Потому что роман «Блондинка» — это самое, наверное, необычное, искреннее и страшное жизнеописание великой Мэрилин.Правда — или вымысел?Или — тончайшее нервное сочетание вымысла и правды?Иногда — поверьте! — это уже не важно…
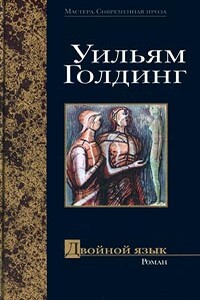
«Двойной язык» – последнее произведение Уильяма Голдинга. Произведение обманчиво «историчное», обманчиво «упрощенное для восприятия». Однако история дельфийской пифии, болезненно и остро пытающейся осознать свое место в мире и свой путь во времени и пространстве, притягивает читателя точно странный магнит. Притягивает – и удерживает в микрокосме текста. Потому что – может, и есть пророки в своем отечестве, но жребий признанных – тяжелее судьбы гонимых…