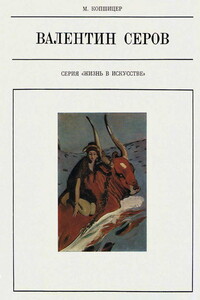Рубенс - [82]
«Четыре философа» — групповой портрет, имеющий большое значение для понимания философских убеждений художника в тот период и обнаруживающий, как и ранее, всю ту же настоятельную необходимость в духовном общении, которую Рубенс ценит как одно из высших и непременнейших условий человеческого существования. Образ самого художника здесь суров и печален. Картина посвящена неожиданно умершему в 1611 году любимому брату Филиппу и его учителю, нидерландскому гуманисту Юсту Липсию, скончавшемуся за пять лет до этого, в 1606 году. Четвертый на картине — Ян ван ден Ваувер, друг и единомышленник, подобно остальным присутствующим на картине, последователь стоического учения Сенеки. Бесстрастие и бесстрашие перед лицом жестокой судьбы, верность идеям, которые вновь возродил Липсий, противостояние злу жизни окрепших духом — эти мысли лежат в основе образного решения группового портрета, по существу, превращенного в картину, исполненную глубокого значения, имеющую характер не только автобиографический, но и служащую историческим свидетельством духовных исканий людей того времени, попыткой найти выход из трагических обстоятельств.
Обращение гуманистов XVI — начала XVII века к философии стоицизма было вызвано острой потребностью в духовной опоре, которую уже не могла удовлетворить в том бушующем мире борьбы христианская религия, сама переживавшая критическую пору в своем влиянии на души людей. Век грандиозных классовых битв, таких, как Крестьянская война в Германии и Нидерландская революция, жесточайший террор, наступивший в результате первой и в ходе второй, пошатнули гуманистическую и христианскую веру в доброту человека и бога, требовали от современников уяснения личных своих позиций, этики поведения, отношения к ужаснувшему всех размеру бедствий, огромному числу людских жертв и нескончаемому горю. Для многих из современников, не обладавших темпераментом борцов и желавших определить долю своего участия в совершающемся, меру личной зависимости и причастности, в известной мере сломленных и обезоруженных устрашающим коварством и гнетом реакции, выход оказался возможным только в принятии учения о бесстрастии души, фаталистической покорности происходящим событиям истории, ясном сознании невозможности влияния на ход исторического процесса или судьбы, спокойном безразличии к смерти. Смерть Сенеки была истинным примером для всех стоиков. Рубенс написал картину «Смерть Сенеки» в 1611–1612 годах, по всей видимости, так же как и «Четыре философа», внутренне связанную с кончиной его брата, Юста Липсия и, возможно, даже Монтеня, в переписке с которым Липсий долго состоял и о чем Рубенс не мог не знать, так же как и о его, достойной стоика, смерти. За основу при создании образа Сенеки он взял античную статую, ныне считающуюся изображением африканского рыбака (Лувр, Париж). Обреченный Нероном на смерть философ показан в оставшиеся минуты своей жизни, когда, велев взрезать себе вены, он диктует последние наставления своим ученикам. Картина выдержана в густых коричнево-красных тонах. Производимое ею на зрителя впечатление определяется напряженно горящим колоритом, а также воздействием несколько натуралистической трактовки старческой фигуры философа, стоящего в чане, наполненном кровью, и драматическим решением светотени. Обращение Сенеки к зрителю, целая гамма разнородных чувств, отраженных на лицах потрясенных присутствующих, создают вместе сильный эмоциональный эффект, в котором явно звучат ноты героического восхваления душевной доблести античного философа.
Близкие себе черты — твердость духа, достоинство, волевую собранность — Рубенс отмечает во многих мужских портретах этого периода. Будучи связанным со стоицизмом, Рубенс не разделяет целиком стоическую доктрину, высоко ценя в человеке силу и энергию, энтузиазм, способность к действию.
Идеей героического мужества проникнуты два знаменитых алтарных триптиха, законченных в 1611 и 1614 году, — «Водружение креста» и «Снятие со креста» (оба — собор Богоматери, Антверпен). Первый, созданный для ныне не существующей церкви Синт-Валбург, был поставлен некогда высоко в центре алтарной части готического храма, к нему вели высокие ступени, и поэтому Рубенс сделал главный расчет композиции на точку зрения снизу. Взгляд матери с ребенком на руках в левой створке дает глазам зрителя направление вверх. Главный мотив движения в центральной створке идет также снизу вверх. Таким образом, движение смотрящего вверх, на картину, зрителя соотносится с движением в самой картине, чем достигается и устанавливается динамический, а также эмоциональный контакт. Рубенс активно использует иллюзию ввода картинного пространства в реальность близким расположением фигур, как бы прорывающих переднюю плоскость, фрагментарным их изображением, а также созданием впечатления близкого конечного выхода водружаемого креста за пределы картины — мотив, уже однажды им использованный.
Это колоссальное произведение шести с половиной метров в ширину и четырех с половиной в высоту не знает себе равных не только своим невиданным масштабом, но прежде всего грандиозностью замысла, ораторским искусством обращения к толпе, поистине героическим победным звучанием. Подчеркивается не страдание и мучение Христа, а торжество героя, победа стойкости его духа и воли. Если в образах простых женщин выражены чувства смятения, сострадания и живого участия, то в образах Иоанна и Марии Рубенс воплотил особое состояние духа, преодоление жестокой скорби, осознание высшей необходимости свершившегося. Напряженным физическим усилиям палачей противополагается духовная сила Христа. Римский военачальник с жезлом, исподлобья смотрящий на Христа и сдерживающий коня, — необходимое звено в этом сложном сгустке страстей. Объединенный общим местом действия, трехчастный алтарь производит монументальное впечатление. Монументальность его строится не на статике, а на новых принципах динамического равновесия. Величавый и могучий ритм объединяет целые группы человеческих фигур, искусно связанных между собой. Так, женские фигуры в левой створке образуют диагональ, диагональ правой состоит из группы всадников, в центре наблюдается как бы столкновение двух диагоналей. Эти расходящиеся и сходящиеся движения групп происходят в пространстве и вовлекают его в орбиту своего моторного состояния. Единое место действия трех створок — скалу, поросшую кустами, — Рубенс соотносит с образом бесконечного мира, намек на который дает прорыв голубого неба. Значительность образов рождается от внутренней их связи с общим грандиозным замыслом.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».
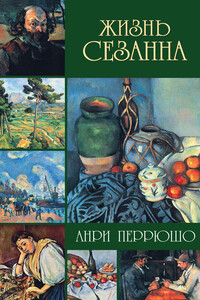
Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.
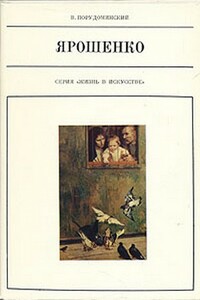
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
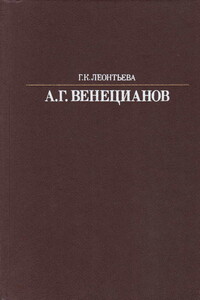
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.