Розанов [заметки]
1
Любопытно, что со святым Себастьяном сравнивал самого Розанова критик А. А. Измайлов, о чем Венедикт Ерофеев едва ли знал. «Живет, кажется, с вечною стрелою в сердце, как Себастиан, и когда бы это ни было и где бы он ни был, – весь во власти одних вопросов». Розанов после этой статьи писал Измайлову: «Не скрою: 2 слова – “о стреле Себастиана” и “исповеданиях” всего дороже».
2
Большинство – не значит все. Конечно, и в советское время у Розанова были и читатели, поклонники, и исследователи: А. Н. Богословский, В. Г. Сукач, П. В. Палиевский, М. Т. Палиевский, В. В. Кожинов, В. А. Фатеев, А. Н. Николюкин, А. Л. Налепин, Т. В. Померанская, В. И. Сахаров и др.
3
Е. Е. Голубинский вспоминал немного иначе: «…сколько ни пил, никогда нельзя было заметить, что пьяный».
4
«Мы клянемся в этой истине: народ наш не имеет и тени той любви к Государю, какую имеет Государь к народу; это – тайна истории, тайна самодержавия. Мы знаем, как народ любит Государя; видели трогательнейшие свидетельства этого, и вообще это общеизвестный факт; но вот чего никто, кроме сердца Царева, не знает: что народ, толпа, улица, площадь in concreto еще несравненно более любимы Царем, – как отцом более любимы дети, нежели детьми отец, опекуном опекаемые, чем опекаемыми опекун, учителем ученики, нежели учениками учитель; и вообще властное, заботящееся, мощное более проникновенно – даже до страдания – любить сирое, маленькое, сжавшееся, что, может быть, за тысячью забот и нужд своих, даже за неопытностью, за духовною неразвитостью своею, не имеет ни сил, ни уменья, ни самого желания, догадки – ответить равною любовью».
5
Была еще одна, возможно, самая первая и самая взрослая. Ср. о ней в «Кукхе» А. М. Ремизова: «22. 9. Был В. В. Розанов. Рассказывал: когда он первый раз это сделал – ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке, за 40 – так на другой день с утра он песни пел».
Впрочем, в автобиографическом очерке «Puer eaturnus» Розанов вспоминал эту (или похожую) историю иначе: «Вдруг однажды она мне сказала:
– Василий. Иди ко мне спать.
Я спал на кровати с Сережей (брат). И расхохотался.
Она не продолжала и потушила огонь.
Мне в голову ничего не приходило. И подумать не смел, чтобы “я пришел ей на ум”. И лишь летам к 35 я догадался. “О несвязавшемся романе”.
Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей я узнал, что к этим годам “муж уже никогда не живет со своей женой”, и она, при очень больших силах, была много лет не “евши”. Тут все поймешь и все простишь.
Если бы все устроилось и в сдержанных формах – для меня наступила бы нормальная жизнь, я поздоровел, созрел. А она была, в сущности, “покинутая мужем жена”, т. е. вдова со всеми правами вдовы.
Мне было 14, ей около 36. Она – в полном цвету. Я “в возможности” до преизбыточества».
6
Зато есть такая запись от 13.03.1919: «13 го. Вьюга. Вчера отнес Розановым пакет В. В-ча с надписью: “Дневники и записные книжки. Воскресенье после смерти”. Оказались – статьи, письма, 1 записная книжка». А месяц спустя в записи от 8 апреля 1919 года Дурылин воспроизводит свой разговор со вдовой Розанова Варварой Дмитриевной Бутягиной, из которого следует, что это она рассказала ему о первом браке писателя: «Он был как ребенок. На первой жене из жалости женился. Ее принимали все за его мамашу. Ему нужно было к кому-нибудь прижаться».
7
Тут, конечно, нельзя не сослаться на письмо Розанова к Глинке-Волжскому, в котором В. В. воспроизвел свой диалог с Аполлинарией.
«С Достоевским она “жила”.
– Почему же вы разошлись?..
– Потому что он не хотел развестись с своей женой, чахоточной, “так как она умирает”…
– Так ведь она умирала?
– Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.
– Почему разлюбила?
– Потому что он не хотел развестись… Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула…»
Но опять же, если подобный диалог и имел место, то я почти уверен, что не в самом начале их знакомства.
8
Ср. у Дурылина: «Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором “Сем<ейного> вопроса”, “В мире неясного”, всего, что писано им о поле и браке. Против нее вопияла вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом (“О понимании”), а истинным цветением и плодом только с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою – нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда – Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной “близости” с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без “испанцев”, без “психопатологии”, с одной мудрой онтологией “ложа нескверного”, – с любовью великою, – вот кто была его музой – Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского – ничего, кроме огромного – далекого от гения Розанова – трактатища “О понимании”, а при этой – при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, – и какие книги: “Легенда о Великом Инквизиторе” (СПб., 1893), “Сумерки просвещения”, “Религия и культура”, “Природа и история”, “В мире неясного и нерешенного”, “Литературные очерки”, “Около церковных стен” и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили – всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, местью детям Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении “незаконных” (“законными” были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав “незаконных детей”, которую Розанов повел так горячо и твердо в “Семейном вопросе в России”, в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин “незаконнорожденные”.
А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, – даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. “Потом она (Медея № 2: ‘Тучкова-Огарева’, перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (– Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой…” (с. 119).
С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бороденкой и папироской во рту?»
9
Ср. в письме Б. А. Грифцову в 1911 году: «Женитьба… Ужасное несчастье. Прямо огненная мука, позор, унижение. 1-ая жена моя какая-то “французская легитимистка”, на 18 лет меня старше, талантливая, страстная, мучительная, я думаю – с психозом, который безумно меня к ней привязал».
10
Впрочем, позднее его отношение к университету сделалось более благосклонным. «Хорошее было время в университете в смысле профессоров, – писал он в 1916 году в статье «Еще – памяти русского историка (О С. М. Соловьеве)». – Тогда процветали в университете: С. М. Соловьев и сменивший его вскоре В. О. Ключевский, Вл. Ив. Герье… П. Г. Виноградов… И украшая университет, украшали Россию». Ср. также в воспоминаниях Анастасии Цветаевой: «Когда Розанов узнал, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека».
11
Ср. с мнением философа В. В. Бибихина: «С Розановым стало легко, когда было решено, что он сладенький и свой. Но он стал такой; ведь сначала был совсем другой Розанов. Можно ли сказать, что Розанов книги “О понимании” не понят? Нет, нельзя так сказать, потому что тот Розанов просто не прочитан. Никем, потому что даже один из теперешних распорядителей его наследия, владельцев его имущества, комментатор, представитель и изъяснитель, говорит о той книге, что это какой-то трактат по науковедению, заслуженно не замеченный, Бог знает какой странный опус, где “предпринята попытка рассмотреть ‘понимание’ как научную категорию”. Другой специалист, тоже претендующий быть представителем, отзывается о его главной книге: какой-то “весьма схоластический трактат”… Все было бы в порядке, если бы сам Розанов сказал: да, с моим ранним трактатом произошел сбой, 737 страниц действительно какого-то скучного науковедения, на самом деле весьма схоластический трактат. Искания и ошибки молодости. Но нет, Розанов всегда говорил другое и прямо противоположное, скромно просил: прочитайте, посмотрите ту книгу “О понимании”, жалко, что вы ее у меня не знаете. А потом совсем резко, прямо черным по белому написал, что журналистика игра, а философия серьезно и что все время была бы философия, если бы не умирать с голоду. Мы знаем лучше: в его философии, нам кажется, ничего нет, как говорит еще один очень важный специалист; какие-то сырые досократики, поэтому другое мы печатаем, а то пока нет. В Розанове происходит разрушение литературы. Это всех радует, и вокруг этого разрастается еще одна литература. Но почему-то никому не пришло в голову, что в Розанове происходит разрушение не только литературы, но и литературоведения. Оно поставлено в том, что касается его, под вопрос. Чем? Опасной возможностью того – а я уверен, она и осуществилась, – что племя любителей розановской словесности будет иметь перед собой корпус Розанова, ходить по нему взад и вперед, уже по всякому, и говорить мимо него. Мимо по той же самой причине, по какой не читается молодой философ Розанов. Не может быть прочитано что-то на чужом языке, в котором не выучен алфавит. Алфавит к языку Розанова – его первая книга. Не знаю, в ту ли сторону мы даже все его строки читаем, пока не заглянули в алфавит. Там ключом ко всему Розанову мне кажутся вот эти места: “понимание есть”… Там, где, мы думаем, мы уже читаем и понимаем Розанова, перед нами в зеркале пока еще наш портрет. Мы неосторожно подставились этому зеркалу. Розанов загадочно смотрит на нас из своей каменной задумчивости».
12
«– “А какова действительная научная ценность этого труда?” – спросил я однажды у большого специалиста философии, академика и друга Соловьева. – “Этот труд, – ответил он, – замечателен тем, что Розанов, не читавший Гегеля, собственным умом дошел до того, до чего дошел Гегель. Я думаю, что этого не нужно было делать, – проще было научиться читать по-немецки”…
Это была горькая истина, но это был и очень высокий комплимент Розанову как мыслителю».
13
Вот его полный текст, приведенный в книге Л. И. Сараскиной: «…Помните и знайте, что какое бы горе у меня ни случилось, когда бы мне ни пришлось, хоть в будущем далеком, вынести унижение и позор, первая мысль моя будет не о нем, а о Вас, не о позорящем меня человеке, а о Вас, меня позорившей и на меня [?].
Помните, что между мною и всяким обидчиком моим будете стоять Вы, первая ненависть моя к Вам; всякую обиду я буду переносить на Вас, буду принимать ее как бы от Вас – Вы первая начали, а другие только продолжают, и они чужие, для них я ничего не сделал, а Вы были любимой женщиной, для которой я дважды не пожалел жизни. Ваша рука первая поднялась на меня. С Вас начались все радости моей жизни. Вы рядились в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли – не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов, и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах, и мысль эту я нес все 7 лет молча; знайте, что даже о Смирновых, даже о сестре Вашей, и Анне Асафьевне, и о Свиридовых я всегда думал, что все они меня считают подлым и алчным человеком, женившимся на Ваших деньгах. Легко мне было. Бог один видит мое сердце. Когда Ваша мать приехала в Москву и впервые я с нею увиделся, я обошелся сухо и ушел с Барановским играть в карты, чтобы не дать ей повода думать, что ищу ее расположения, жду от нее денег. А Вы рядились в шелк; занимались испанской историей и не видели, какую ежеминутную муку несет в сердце Ваш муж. Я нарочно ходил в отрепьях, звал Вашу мать и отца как чужих людей по имени и отчеству, хоть любил их и мне дорого бы было звать их отцом и матерью; но я вспыхнул, когда раз Свиридов сказал мне о покойнице Ваша мамаша. Сынок со стороны, ждущий наследства. Поченина раз заговорила о моей трудной жизни в университете, и я нашел из ее слов, что Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака. Я нарочно не переводился из Брянска, не хотел искать ученой степени, что предлагал мне Герье, упорно трудился над своей книгой, чтобы не жгла меня эта мысль более, чтобы увидели во мне серьезного и скромного человека, который очевидно не на деньгах женился, потому что ведет тихую и скромную жизнь, не ищет внешней обстановки и занят своею мыслью, ее развитием и осуществлением. Поняли Вы меня и оценили. О сжатых в башмачке ножках девчонки Салиас плакали, а в сердце мужа не заглянули. Перед всеми хвастали, как Вам присылали мать и отец деньги, на что я всегда смотрел с ненавистью. С семьями живут на мое жалованье, а Вы вдвоем со мной не хотели [?] это сделать, чтобы не было этих денег из Вашего дома в мою семью…
Мукой мужа Вы удовлетворяли Ваше тщеславие, знайте это, помните. Вы вечно тащили меня в гости и силились собирать у себя гостей, заводили необыкновенные лампы и огненного цвета пальто. Стыдитесь, изорвите этот позор мой, так мучивший меня столько лет. Вместо скромной и тихой жизни, вместо того, чтобы сидеть около мужа, окружить его вниманием и покоем в многолетнем труде, заставить других уважать и беречь этот труд, – что Вы сделали. Жена верная примет на себя все оскорбления и не допустит их до мужа, сбережет сердце его и каждый волос на его голове – а Вы за ширмами натравляли на меня прислугу, а воочию – всех знакомых и сослуживцев, во главе их лезли на меня и позорили ругательствами и унижением, со всяким встречным и поперечным толковали, что он занят идиотским трудом.
Спросили Вы меня хоть раз, о чем я пишу, в чем мысль моя. О бездарном ученом и лакее-пролазе Любавском Вы любили говорить; знакомство с ним могло льстить Вашему тщеславию, так как он оставлен при Университете, хоть все еще не попал в него и через 7 лет и все еще тужится над компилятивной диссертацией своей, подбирая цитаты из книг, жалкая карикатура, без какой-либо оригинальной мысли. А муж, над одной мыслью продумавший 5 лет и в 5 же лет написавший труд, о котором люди, которые и в переднюю не пустят Вашего Любавского, говорят, что он выше их собственных трудов – только потому, что он был не искателем и не кричал и не рассказывал уже о совершенном труде встречному и поперечному (а Ваш Любавский все кричит о замышляемых трудах) – Вы отстранились от этого мужа, подло предали его на ругательства и первые их начинали, ожидая за это похвал себе. Низкая Вы женщина, пустая и малодушная. Н. Страхов говорил мне лично, читая одно место в моей книге и невольно остановившись: “Просто завидуешь, как Вы пишете, какая точность мысли при совершенной легкости языка”, Радлов, профессор философии Александровского лицея, начавший по поручению нашего министерства писать разбор моей книги, оставил его, даже скомпрометировав себя, и открыто сознался: “Я не имею и десятой доли того таланта, который есть у Розанова, мне и во сне не приснится написать такие страницы, как у него, – что же я буду указывать ему в чем-нибудь”. Ап. Майков искал моего знакомства и, сравнивая меня с Гротом, проф. философии в Моск. унив., сказал: “Я скажу Делянову, что у него учителя уездного училища читают философию в университетах, а профессора философии читают географию в уездных училищах”. И все эти люди и другие из их кружка, несколько более образованные, чем Вы, и Ваш Любавский, и Виктор Михайлович, перед коими Вы благоговеете, ласкали меня и говорили, как мне передавали: какая светлая личность встает между нами; и до того связалась моя душа с Вами, что все, что я ни слышал, все это мне отрадно было только потому, что поднимало из того позора и унижения, в который Вы меня ввергли, и мне сладко теперь сказать это Вам, что Вы ошиблись во мне и я оценен, но только не Вами, которая променяла меня на Саркисовых и Любавских. Мне сладко, что муку свою, видя Ваше отвращающееся от меня лицо, я перенес молча, гордо не искал ни в ком поддержки, даже в жене, и мое терпение награждено: к моей мысли прислушиваются и моего слова ждут. Вы меня унизили, а другие подняли. Пустая, пустая Вы женщина, не поняли ничего, что во мне было серьезного и скромного: видя одно, что теперь все и науку и философию любят ради тех должностей, которые они доставляют, боля душой за этот униженный кусок и за то, что наш русский народ не может возвыситься до него (только Вам это говорю), я молча живу в глуши и несу проклятую, мне ненавистную должность, принимаю унижения, от которых бы Вы разорвались, только чтобы не смел никто в будущем сказать, что русские неспособны бескорыстно что-нибудь любить, чем-нибудь без нужды и выгоды интересоваться. Одного слова моего достаточно, чтобы не сидеть здесь больше в глуши среди нравственных уродов, картежников и идиотов, и даже попечитель только посторонится и даст мне дорогу, по которой я захотел бы идти, и я не иду по ней, до конца жизни буду здесь сидеть, чтобы не погибла мечта моя, чтобы умереть мне с мыслью, что не унизил я имени своего народа среди всей грязи, которою она запачкана, я останусь светлою и чистою точкою.
Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и в свои вечные занятия средневековою историею, что все звучит так красиво и имеет такой красивый вид: тщеславная женщина: зачем Вы всякой знакомой показывали единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал, зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и щеголять ею на площади: в Москве при мимолетном знакомстве с Шубиной у Анны Ив. Покровской Вы уже показывали его. Таковы же всегда были Ваши занятия средними веками: что другое Вы сделали, как, имея лишние деньги и зная французский язык, – понакупили книг, тщеславно разложили их на столе и по примеру своего непременного Идеала Михайловского, но еще с меньшим успехом, чем он, подумали, что стоит несколько поначитаться этих книжек и составить по ним новую, чем приобретать сразу и ученое имя, и литературную славу. Жалкая Вы женщина, бедная, зачем Вы уродуете себя, вместо того чтобы без стыда носить простое и скромное платье, которое у Вас есть, Вы хотите рядиться в чужие блестящие поступки. Неужели Вы думаете, что можно что-нибудь сделать, не имея определенной мысли в науке, только имея книги, перо и чернила. Чернила-то у Вас есть, которыми бы Вы все написали, а вот мысли-то для чернил нет. Я никогда без боли не мог слышать, как, тщеславясь перед каким-нибудь Смирновым или перед Саркисовым, которые едва помнят о том, что такое средние века, Вы начинали толковать о своих занятиях Бланкой Кастильской, о которой они никогда не слыхали, или Колумбом, о котором еще имели понятие, и даже не совсем смутное. К чему этот позор Вы на себя надевали, разве Вы не могли заниматься скромно, и, ничего еще не сделав, уже шутили о том, что сделаете. Только я все это видел и болел за Вас, потому что любил Вас; и ни разу не сказал Вам об этом ни слова, думая, пусть хоть в воображении своем поживет. А Вы тут же сидели и говорили с высокомерием и снисхождением о ниже Вас стоящем муже: чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало. Больное Вы дитя, и только как больное и мало радости видевшее, я щадил Вас, и Вы этого не понимали. Ничего не поняли в наших отношениях, и прахом пошла наша жизнь. И теперь, все еще питаясь какими-то мечтами, Вы думаете все время, что от чего-то спасаете меня, от кого-то оберегаете. Не сберегли себя, да и меня утопили, а в спасительницы других маскируетесь. Оставьте это, оглянитесь на свою прошлую жизнь, посмотрите на свой характер и поймите хоть что-нибудь в этом. Но никогда Вы ничего не поймете, так и умрете, не узнав, что Вы такое были и что за жизнь провели. Плакать Вам над собой нужно, а Вы все еще имеете торжествующий вид. Жалкая Вы, и ненавижу я Вас за муку свою. Бог Вас накажет [?] за меня. Только когда умирать будете, когда в предсмертной муке будете томиться – пусть образ мой, который один из людей Вас понял и оценил и Вы над ним же одним насмеялись [?] и замучили – пусть мой образ в эту предсмертную муку Вам померещится».
14
Ко всему этому стоит добавить характеристику, которую дал Сусловой Ф. М. Достоевский в 1865 году: «Аполлинария эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. <…> Мне жаль ее, потому что предвижу, она будет вечно несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастье. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья».
15
Так, Л. И. Сараскина оценивает этот сюжет следующим образом: «В переписке А. П. Сусловой и Е. В. Салиас 1880-х годов, насколько об этом можно судить по письмам Е. В. Салиас, причиной разрыва А. П. Сусловой с мужем называлась не ее история с О. Б. Гольдовским, а неверность В. В. Розанова – его связь с некой молодой учительницей (может быть, дочерью Д. Д. Кучинского, брянского доктора)».
16
Очень любопытны переклички между автобиографическими произведениями Пришвина и Гедройц, относящиеся к их учителю. И там, и там Розанова ученики называют Козлом, и там, и там он дергает ногой. Но все же следует иметь в виду, что Гедройц написала свой роман позже и могла что-то у Пришвина позаимствовать. Сам он, судя по его дневнику, ее роман не читал.
17
Вот что писал по этому поводу В. В. Бибихин в предисловии к изданию перевода Розанова и Первова в 2006 году: «У Первова и Розанова мы имеем первый или может быть даже до сих пор единственный органичный перевод Аристотеля, впервые осваивающий этого автора в традиции нашей мысли. <…> Попытка молодого Розанова создать русского Аристотеля, оставшаяся 115 лет назад почти совершенно не замеченной, как и его написанная в те же самые годы большая философская книга, напоминает о неразвитых возможностях нашей культуры. Будь наш культурный климат другим, мы знали бы не только публициста Розанова. Мнение о якобы оставлении им раннего увлечения неверно; о своих философских работах он никогда не забывал. <…> После Розанова никому из наших исследователей и переводчиков Аристотеля не удалось настроиться на верный тон. Философа поняли в России тяжеловесно и переусложненно, его отчетливость перевели в формализм. Алексей Федорович Лосев пережил бездонную глубину Платона, но в Аристотеле увидел мало что кроме дескрипций и дистинкций, приняв его за “первого профессора в истории философии”. <…> Как с известным нам журнальным Розановым, так и с Розановым-комментатором легко, весело; он всегда одаривает читателя; его увлечения интересны, многозначительны; все его трактовки текста так или иначе движутся в русле античной мысли. Аристотель у Первова и Розанова не косноязычная пифия, множащая перед нами неразрешимые загадки, а открытый всматривающийся во все ум. Люди в разные эпохи и в несхожих разноязычных обществах заняты одним. Они отвечают на вызов тайны».
18
Есть очень интересное воспоминание С. Н. Дурылина в его книге «В своем углу» как раз в связи с этой статьей, а вернее с критикой на нее: «Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че. Живо помню: я мальчик, самое большее – мне 13–14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского “Литературные воспоминания и современная смута”, и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я был большой фантазер и большой литературщик и сейчас же состроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству… Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство – это что-то “от кражи” (имя Прудон я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона, и тогда же его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее “от угнетения”, – и, должно быть, это “смутно слышанное” как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я это крепко запомнил – что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество). Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем. И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от “наследства” (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского – и за то получил должное возмездие от их “идееприказчика” – Михайловского».
19
Ср. в «Уединенном»: «В мое время, при моей жизни создались некоторые новые слова: в 1880 году я сам себя называл “психопатом”, смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слыхал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя или других; потом появилось это в журналах. Теперь это бранная кличка, но первоначально это обозначало “болезнь духа”, вроде Байрона, – обозначало поэтов и философов. Вертер был “психопат”».
20
Но вряд ли в душе Варвары Дмитриевны. Ср. в воспоминаниях Н. В. Розановой: «Мама же говорила: “Терпеть не могу генералов и попов”… Мама не перенесла в наш дом традиции ее родни. Она редко говорила о ней, может быть, в силу замкнутости, а может быть, из каких-нибудь тягостных воспоминаний, так как незаконный и со стороны церкви преступный брак ее с отцом, вероятно, был осужден ее родней».
21
И в то же время сам писал в «Мимолетном» о своих гимназических годах: «Но хуже всего была география проклятая…»
22
Так, в статье «Два съезда», опубликованной в 1907 году, он писал: «Глубокое вырождение и упадок русских чувств констатировал уже четверть века тому назад Достоевский в “Дневнике писателя”. В ту пору, в разгар русско-турецкой войны, в противовес почти поголовному и уже старому, даже очень старому увлечению нашего общества исключительно европейскими воззрениями, теориями и вкусами, образовалась какая-то “русская партия”, кажется ничем ярко себя не выразившая. Кое-где были “коллективные постановления” бойкотировать английские товары и английские магазины в Петербурге и Москве, да несколько русских женщин нерешительно надели сарафаны и кокошники. И вот, когда это нерешительное движение вылилось в сформирование русской партии, то Достоевский с глубокою тоскою и недоумением написал в “Дневнике” своем: “Боже! У нас есть русская партия! ” Он недоумевал: каким образом в стране, именуемой Россиею и населенной русским народом, может возникнуть как что-то новое, обособленное и очевидно протестующее русская партия? Ибо ведь это знаменует собою, что вся Россия – уже не русская; т. е. что вся Россия шарахнулась куда-то в сторону от России же, т. е. от самой себя! Что же это такое?! И Достоевский развел руками при виде этого буквально кошмара: представим себе Древнюю Грецию и в ней “греческую партию” или современную Англию и в ней “английскую партию”. Представим себе Францию с “французскою партиею”. Невозможно представить! Не было никогда и, очевидно, не будет! Но в России это случилось».
23
Подробнее об этом в статье О. Л. Фетисенко «Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову».
24
Справедливости ради, шестеро детей было у М. О. Меньшикова, шестеро у И. Ф. Романова (Рцы), и это поразительный факт, как два таких разных человека – один прямой розановский оппонент, второй – в течение нескольких лет товарищ и единомышленник – были схожи с В. В. в этой очень важной семейной подробности.
25
Через два месяца после свадьбы Достоевский послал Сусловой письмо, в котором рассказал ей о своей женитьбе и закончил так: «Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но, судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой. О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. И сужу по фактам. Вывод составь сама. До свидания, друг вечный!»
Известно также, что Аполлинария своему бывшему возлюбленному ответила, и, прочитав этот ответ тайком от мужа, двадцатилетняя Анна Григорьевна записала в своем дневнике: «Я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет». Ср. также: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбнулся».
26
И не случайно, кстати, передавая письма А. Г. Достоевской в Румянцевский музей, Розанов снабдил их следующей характеристикой: «Достоевская Анна Григорьевна
Конечно, лучшего он не мог сделать, как женясь на ней. NB. Апол. Прок. С-а была в 60-х годах, как раз перед женитьбой на Ан. Гр. возлюбленной Ф. М. Д-го».
27
«Они всю свою жизнь очень легко обходятся без постов и говения, без молитв и причащения, совершенно игнорируя даже существование Церкви. Лишь в одном жизненном вопросе им приходится еще считаться с Церковью – в вопросе брачном: вот почему они с таким бешенством набросились теперь на брачные законы Церкви, как на последнюю крепкую ее позицию», – писал главный редактор консервативных «Московских ведомостей», будущий основатель Союза русского народа В. А. Грингмут в статье «Православная церковь перед лицом интеллигенции».
28
См., например, статью о Розанове на сайте «Антимодернизм.ру»: «…против Христианства Р. В. выдвигал не теоретические возражения, а перечислял разрозненные и спорные факты несчастливых и неравных браков, расторжения незаконных и непризнания невенчанных браков, имея в виду, конечно, свой собственный незаконный второй “брак”».
29
Позднее это очень точно сформулировал в письме П. П. Перцову С. Н. Дурылин: «У великоросса Розанова, у костромича Вас. Васильевича, в исключение из этого печально-верного закона, был гений семейственности. Его писательский стол как бы не отодвигался от семейного очага. Крик грудного ребенка не только не мешал ему писать, но вдохновлял его на писательство. Можешь ли ты себе представить женатого Владимира Соловьева? И можно ли допустить, что огромное “оправдание добра” писано подле горящего семейного камина, под детские милые “агу” из соседней комнаты? Если б затеплить камин, а в соседней комнате баюкать ребенка, не написалось бы ни холодно-благородное “оправдание добра”, ни страшные “Три разговора”, а написалось бы что-нибудь другое, более теплое, тихое, религиозно-душевное, важное. Василий Васильевич первый в России – да и не в мире ли? – устроил свой писательский кабинет в детской, – и как приходило время писать, – так и затепливал – метафизически – камин. Оттого у него чернила теплые, и пишет он не холодным, а нагретым пером».
30
«Как-то сестра, много лет приезжает ко мне из Костромы, и рассказывает: “Какой случай у нас: в лесу нашли двухгодовалого ребенка. Умер с голоду; ползал – умер!” – “Как? Что?” – “Незаконный был: матери страшно было убить, она и оставила среди леса, в надежде, что кто-нибудь пройдет и возьмет. Так ребенок забился под елочку, сидел, может, и прошел кто-нибудь, – да не видал, а когда плакал, – никто не проходил. Только ползал-ползал, верно, долго, верно, маму искал; и материнское сердце искало его: да… Бог не велел, Бог указал стыд, Бог велел наказать таких. Ну, словом, вскрытие и – ‘умер голодной смертью’”».
31
Ср. в письме Голлербаху: «Затем я начал страдать – нет: а получил (мнимо) – гоголевский порок от того, что обширное овчинное одеяло, какое нами употреблялось ночью “в повалку”, давно проносилось, шерсть была только клоками, состояло оно почти из кожи только: и вот – едва сделаешь это – как во все время делал я – согреваешься – и затем крепко-крепко (от ослабления) засыпаешь. Это было задолго до образования семени: и я думал, что “умру”, когда вдруг раз – при повторении днем (“наслаждение”) у меня выбрызнуло 1-ое семя. Я был потрясен, испуган и главное “умру”. Нужно В. заметить, что все, которые пишут, что “от этого можно отстать” – лгут. Отстать от этого невозможно, это неодолимо. И вот слушайте впечатление от этого в пору писания “О понимании”. Мысль греха: трансцендентного. “Я – гибну”. “Я что-то нехорошо делаю”. “Я буду хворать”. “Вообще я негодный человек”. “Я ни к чему не способен”. “Простите звезды, прости – небо”. “Прости Боже, если Ты можешь”».
32
Примечательно, что похожий совет дал Розанову и М. П. Соловьев, которому В. В. также описал свою брачную историю: «Вам же паки говорю: оставьте свои мудрования о браке и не играйте христианством как мячиком. Мудрования Ваши неверующих забавляют, христиан смущают и вооружают против Вас».
33
Ср. в письме И. Ф. Романова (Рцы) Розанову от 29–30 сентября 1891 года, то есть еще при жизни Леонтьева (цит. по статье филолога, историка литературы, краеведа Андрея Дмитриева «“Ущемленный в средостении славянофил” Рцы (И. Ф. Романов) в его неопубликованных письмах к В. В. Розанову»): «“Истина удобопревратна” – о да, о да! В особенности, если искать ее под руководством таких дядек, как К. Н. Леонтьев. Я не всё его читал, но дерзну высказать самоуверенное утверждение, что понимать его я понимаю досконально. Огромный ум, но болезненно-извращенный. На одной его брошюре, присланной мне приятелем, я сделал приблизительно такую надпись: он обладает почти всею истиною, но это маленькое ничтожное “почти” отравляет всё, что у него есть истинного. Вы обедаете. Вам подают великолепный суп – чудо гастрономического искусства, но ваш сосед по рассеянности чуточку сплюнул в вашу тарелку… Впрочем, самую малость… Станете вы кушать суп? К. Н. Леонтьев есть именно тип не свободной, но лукавой Веры. Он опаснее самых злобных атеистов, точно так же как папизм бесконечно хуже безбожия Штраусов, Ренанов et cet.».
34
Ср. в докладе «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира»: «Савл не довоспитался до Павла, но преобразился в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову – веру во Христа, нет: он изверг из себя раввинство. Отношение в нем есть именно Савла и Павла: взаимно пожирающих друг друга “я”».
35
Ср. в воспоминаниях З. Н. Гиппиус: «Перцов – фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый – преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.
Как они дружили – интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов, непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: “Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом”.
Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, – не сердился, не отвечал».
36
Ср. в дневнике Пришвина: «Гениальность его существа в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно пристроился между Богом и Дьяволом, и свободно, как ребенок, играет то с тем, то с другим».
37
Получив это письмо, Розанов сочинил ответ, который до нас не дошел, но известно письмо М. П. Соловьева, в котором он развивает свою мысль: «Любострастная Лилита, богиня искусительница, от которой и халдеи, и евреи защищались заклинаниями до того, что закапывали черепки с ними под порогами своих домов, кружит над Вами… Могучая Лилит веет над Вами своими полупрозрачными покровами. Она ехидно улыбается при Ваших высоконравственных рассуждениях и подозревает, что под этими словами бессознательно скрываются растущие любодейные инстинкты, сожигающие Ваш мозг… Берегитесь Лилиты».
38
Позднее в письме Флоренскому Розанов отзывался об этом сюжете иначе: «Вы не знаете этого ужасного удушья литературы, когда подлецы и тупицы, когда Соловьев, “танцуя с Лесевичем”, давили всех этих воистину страдальцев за русскую землю, т. е. славянофилов. Я очень низко сделал, что тоже раз лягнул Хомякова. Но и меня переутомило зрелище: “ничего русского не выходит”, все “русское – не удается”. И хотя я любил все это, но с каким-то отчаянием “махнул рукой”. Э, значит, РОК, тогда пусть СКОРЕЕ все проваливается к черту».
39
Кому Розанов писал: «Вы пришли в счастливую пору, когда брюсовское “на таких-то зеленых латаниях – тень стен” и проч. Повалило эту “ослиную самость” позитивизма… повалило именно БЕССМЫСЛИЦЕЙ и НЕПОНЯТНОСТЬЮ, но – с МУЗЫКОЙ. Завыл Спенсер в могиле, когда “объявился Балтрушайтис”, люди сняли штаны и стали ходить на четвереньках. “Вот вам позитивизм”. Это было отлично».
40
«Я ценю Розанова, но и он не вытанцовывается ни во что (боюсь, как бы не оказался и он пустоцветом). В самом деле: хотя бы в вопросе о браке: дает ряд глубинных созерцаний (с которыми я не согласен очень часто), бросает их мимоходом, высвечивает то здесь, то там жизнь; две альтернативы: или совокупить прозрения в одно целое, приделать к этому зерну ходы от обыденности, т. е. дать понять и “малым сим”, или же молитвенно преобразить себя, на себе показать. А то ведь нельзя же в сотый раз и все в тех же выражениях все то же писать… Брюсов верно пишет мне: “Он (Розанов) прилагает свои откровения, виденные им при ‘сапфирных’ молниях, к вопросу о петербургских мостовых. Не разобрав, в чем дело, он при всяком стечении народа начинает кричать: ‘Что? Пол? Мистическая тайна брака? Центр тяжести в сокровенном месте! Приложение силы в точке деторождения’”. И т. д.».
41
Ср. в письме Блока Розанову: «Великая тайна, и для меня очень страшная то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливости и дух… “Нового времени”».
42
«– Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас – и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке! Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:
– А я нахожу, что вы грубы.
Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, – груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб».
Ср. также у Дурылина: «Ф. Сологуб был робок, тих, незаметен, всегда “умалялся” перед людьми… так мало занимал места, что однажды в редакции “Мира искусств” Розанов, ничего не думая, плюхнулся на стул, а оказалось, сел на Сологуба».
43
Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «У нее было несколько рассказов, которые были некогда напечатаны в “Русской мысли” – “Вечернее”, “Безликое” (из жизни в Ельце) и “Сиреневое платье” (последний рассказ в духе Мопассана)».
44
Ср. в воспоминаниях А. Н. Бенуа: «Отмечу еще, что Розанов, привлеченный в сотрудники “Мира искусства” Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое “мудрение”; он питал “органическое отвращение” от философии; в религиозно-философские собрания он никогда не заглядывал… Со своей стороны, и у Розанова было какое-то “настороженное” отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, “победительским видом монденного льва”. Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с “мондом” не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмываемую печать “мещанства”. А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил – что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты».
45
В декабре 1910 года Розанов опубликовал в «Русском слове» небольшой фельетон под названием «Усердствующий Митрофан», в котором высмеял «одного господина, “с благочестивой бородой”, но совсем без головы, невзлюбившего современной русской литературы», который, «скорбя об уничтожении цензуры и надеясь на ее восстановление, много лет посвятил на составление обширного увража, куда занес выписки из “богомерзких” писаний Кузьмина, Арцыбашева, Каменского, Розанова, Горького, Мережковского, Протопопова, Андреева и, кажется, еще многих других литераторов». И дальше: «И его обуяла мысль, что всякое половое вожделение есть “скверна”, – мысль чисто хлыстовская и враждебная церкви, которая признает и утверждает благословением христианский брак. Поэтому он и набрал в кучу совершенно разнородных писателей, заметив у них то общее, что все они разрабатывают проблему пола. Но он не заметил, что в то время, как Каменский, Арцыбашев и некоторые другие услажденно описывают всякие “падения”, и в сущности описывают их хлыстовский “свальный грех”, но только разбитый на отдельные сцены, – другие писатели, как Мережковский и Розанов, стараются поднять к серьезному половую жизнь человека и в этом отношении не имеют другой задачи и другого понимания, чем какое церковь выразила, вводя венчание и утверждая институт брака.
Поистине: “своя своих не познаша”…»
Впрочем, год спустя, когда для Гермогена настали трудные времена, Розанов посетил опального владыку в Ярославском подворье (перед его ссылкой в Жировецкий монастырь) и опубликовал о нем статью в «Новом времени», где акценты были расставлены иначе: «Было страшно слушать, когда епископ Гермоген, с его славою на всю Россию, человек исторический, проговорил мне наивно, именно по детски: “Бывало, прежде чем решишься заговорить в заседании Синода – если что нужно, по чувству говорить свое и особое, то трясутся, трясутся ноги (под столом), прежде чем начнешь…”».
46
Впрочем, сам Розанов отзывался об Иоанне Кронштадтском очень высоко и посвятил ему несколько апологетических статей в «Новом времени», где, в частности, писал о том, что личность Иоанна Кронштадтского «является одной из самых достопамятных в истории XIX века… Ничего статуеобразного, мертвого не было ни в нем самом, ни в богослужении его…».
47
Ср. с воспоминаниями дочери: «Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы».
48
Ср. в дневнике К. И. Чуковского: «В 1905–1906 гг. был литературный салон у Николая Максимовича Минского на Английской набережной в доме железнодорожного дельца Полякова. Поляков (родственник Минского) предоставил поэту роскошную квартиру. Минский поселился там с молодой женой, поэтессой Вилькиной. Вилькина была красива, принимала гостей лежа на кушетке, и руку каждого молодого мужчины прикладывала тыльною стороною к своему левому соску, держала там несколько секунд и отпускала.
Однажды пошел я с нею и с В. В. Розановым на митинг. Когда ей нравился какой-нибудь оратор, она громко восклицала, глядя на него в лорнет:
– Чуковский, я хочу ему отдаться!
Брюсовский “Скорпион” напечатал книгу ее стихов “Мой сад”. Розанов написал к книге предисловие, не читая ее. “Я думал, что книга зовется ‘Мой зад’”, – оправдывался он».
49
См. в статье Розанова «Литературные симулянты»: «С лицом мертвеца, – соглашаюсь, красивого мертвеца, – и загробным голосом поэт Блок читает о землетрясении в Мессине и связи этого землетрясения… с русскою интеллигенцией. Не совсем об этом, а о том, что чувствует или должна чувствовать русская интеллигенция от землетрясения. Кажется, так. Мысль не была ясна, но было очевидно, что именно землетрясение и именно интеллигенция являются двумя полюсами, куда устремлена мысль Блока или куда устремлены его два глаза, недвижные, испуганные. Публика захолодела от ожидания. Вот мертвец заплачет или завопит. Но мертвец сел на стул, точно в гроб упал. Завопил Д. С. Мережковский. Он вопил или вопиял долго, сложно, непонятно, и на тему, и сверх темы, и через тему, куда попало. Так петух с отрезанной головой не разбирает, в который угол кухни ему скакать. Мережковский казался чрезвычайно испуганным чтением Блока. Казалось, ему отрезали голову и вырвали сердце, и он был полон отчаяния… Друзья, и Блок и Мережковский, что вам Цусима? Что Мессина, – как не лишнее литературное впечатление, вроде того, как северное сияние или гром для Ломоносова, писавшего в стихах: “Утреннее размышление о Божием величии по поводу грома” или “Вечернее размышление по поводу северного сияния”. То же самое, с разницей в оттенках и временах. Мережковский завопил, что от “внутренней Цусимы” у него переворачиваются кишки. Но так как он имеет обыкновение сообщать в газеты, что “выезжает из России” или “въезжает в Россию”, то очень хорошо известно и никто не забыл, что именно в то время, когда еще не настали, но могли наступить “известные события”, – он спокойно брал билет в обществе спальных вагонов с кратким маршрутом: “S.-Petersbourg – Paris”. Друзья мои, что вам до России? Не Мережковский ли, завоевывая или коммерчески приобретая себе левую славу, писал, что “он предпочел бы, чтобы Россия не существовала вовсе, если бы он знал, что Россия и свобода – несовместимы”».
50
«Из “Нового времени” я порывался выйти, особенно когда наступили “события”. Там меня связывает только сам Суворин: тут тоже, пожалуй, слабость: старик меня любит (он далеко не всех или скорее почти всех своих сотрудников не уважает), и это вызывает во мне не то что любовь, но очень ласковое к нему чувство», – писал он Горькому в ответ.
51
Думаю, что речь идет о Татьяне Николаевне Гиппиус, сестре Зинаиды Николаевны.
52
Ср. также в дневнике Чуковского: «Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он “мечтатель”, “визионер”, “самодум”, человек из подполья. Недаром у него были статьи “В своем углу”. Вся сила Р[озано]ва в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) – он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского – не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского».
53
Аргументы, конечно, приводились. Так, известно письмо Д. В. Философова Розанову (его цитирует в своей статье «Контуры жакерии» Е. И. Гончарова): «Я читал Ваш ответ Струве. Он очень убедителен, но совершенно не выясняет дела. Что Вы, как человек впечатлительный, талантливый, многообразный, имеете тысячу разных мнений об одном и том же предмете, это никому не интересно. Это Ваше личное дело. “Широк человек, слишком широк, я бы сузил!” Но общественность требует целомудрия, потому что в ней человек (все равно гений или швейцар) соприкасается с людьми. Вы как-то писали о половом акте, что он невозможен днем, на улице. Любовники запираются ночью, у себя, и если кто-нибудь постучит в дверь – акт становится невозможным. И правы полицейские, которые не позволяют людям совокупляться в Летнем саду, на лавочке. Так вот, Ваши “общественные” выступления страшно нецеломудренны, производят невероятно циничное впечатление. Точно Вы ходите по улице с расстегнутыми штанами… Кто Вам возразил? Чуковский, который лежит перед Вами на животе, и как человек большого вкуса любящий “художника” Розанова, и Струве, который первый оценил Вас в прогрессивном лагере, т. е. восстали Ваши друзья. Врагов же Вы даже не задели. Сказать Струве, что он в руку сморкается, Вы не можете, что он не понимает Вас – также. Когда нападают не уличные хулиганы, не люди совершенно неспособные понять Ваше миросозерцание, надо очень подумать. Что же Вы Струве ответили? Ваш ответ можно резюмировать в двух словах: я декадент. Да, Вас(илий) Вас(ильевич), Вы оказались типичным декадентом. Декадентство Вы берете не как данное, которое должно быть преодолено, а как все оправдывающее миросозерцание. Ведь в основе декаденства – субъективизм. Настроение меняющееся ежедневно, вечное прислушивание к собств(енным) ощущениям. Разговор не о предмете, а о впечатлениях. Декадент может быть с годами епархистом (?), завтра черносотенником (sic!), послезавтра сд-ком. “Я всех и ничей”. Но перенесем это в область пола. Ведь и в том логичный декадент не признает никаких норм, кроме своих ощущений. Сегодня две любовницы, завтра три. Однако, как Вы отстаиваете семью, брак, ложе нескверно, сколько жертв Вы принесли этому нескверному ложу!! В браке Ваше декадентство подавлено, и Вы как бы в отместку за “брачное” страдание – разнуздываетесь во всю в общественности, становитесь там подлинным декадентом, sans foi niloi. И это Вам не простится, потому что главный враг жизни, которую Вы так любите, именно цинизм… Вы цинично утверждаете, что “талант” имеет право быть “декадентом”, сегодня преклоняться, а завтра плевать. Нет, этого права Вы не имеете, если уважаете свое я. Это не настоящая свобода, а капризы вольноотпущенного, прихоти мещанина во дворянстве, цинизм Нерона. Это не достойно Вас, и статьи Ваши омерзительны, не только по своему содержанию, но и потому, что писали их Вы…»
54
Подробнее об этом в вышеупомянутой статье Е. И. Гончаровой «Контуры жакерии (В. В. Розанов и Мережковские)».
55
Ср. у Ю. П. Иваска: «Оба они были друзьями. Эта дружба установилась не по “закону ли противоположностей” (которые будто бы сходятся)? Действительно, трудно найти более разительный контраст! Розанов – “гениальный вопрошатель христианства” (Мережковский), полный тоски по Ветхому Завету, искавший и находивший религию “святой плоти”, “святого пола” у древних евреев и древних египтян; о. П. Флоренский – у которого якобы “отсутствовала христология” (по Бердяеву, о. Г. Флоровскому) – был одержим образом грядущего завета Св. Духа и образом Софии (но иначе, чем Вл. Соловьев, о. С. Булгаков и другие богословы и поэты раннего XX-го века). Розанов – беспокойный иудей по натуре, “плотяной” и “душевный” человек; о. П. Флоренский – спокойный эллин, “духовный” человек. Семейному Розанову хотелось уподобиться библейским патриархам, а о. П. Флоренский – это новый гностик, новый Ориген (хотя идеологически он его и осуждал). Розанов – журналист, мало что толком знавший: египтолог без солидной подготовки, нумизмат, покупавший фальшивые монеты, а о. П. Флоренский – замечательный ученый, философ, филолог, математик, физик, даже изобретатель (персонифицированный университет и политехникум!). Розанов – гениальный художник слова; а Флоренский – вычурный стилист, импонирующий немногим. Казалось бы – они противоположны во всем».
56
Ср. еще у Ильина: «Трагедия России была в том, что этот больной уклон духа нашел себе осуществителей, сторонников и апологетов в составе русской интеллигенции; и то, что Достоевский вскрыл как недуг и язву, было подхвачено и насаждено в качестве духовного достижения. В. Розанов был прав не тогда, когда предавался этому уклону, а когда, обернувшись на свое прошлое, содрогнулся и признал, что его “темы” требуют прежде всего духовной чистоты ока и что он сам только напортил, касаясь их. А между тем за ним брели и доселе бредут еще некоторые круги русской интеллигенции, впервые, однако, устами автора “Диалогов” открыто признавшие сродство этого бесстыдства с бесстыдством революции».
Ср. также у современного поэта Ю. М. Кублановского: «Я не ханжа и не из брезгливых. Но у Розанова о семени, микве, содомии, египет. скотоложестве и проч. не могу читать без рвотного рефлекса. Любопытно, однако, что отцу Павлу все это нипочем. И он словно подливает масла в огонь, точнее, наоборот, гладит Розанова по шерстке, рассказывая об оргиях в Черниговском скиту и о имеющих за монастырскими стенами любовниц монахах. Гибла, гибла Россия, и лучшие из лучших тянули ее туда же» (Новый мир. 2021. № 5).
57
Имеется в виду галерея портретов русских философов XX века, созданная художником Юрием Селиверстовым.
58
Судя по всему, здесь в воспоминания Т. В. Розановой вкралась ошибка. Розановы жили в Большом Казачьем переулке с января 1906-го по июль 1909 года, после чего переехали на Звенигородскую улицу, где и происходили описанные далее события.
59
В 1907 году Розанов опубликовал в «Русском слове» (под псевдонимом В. Варварин) небольшую статью «К заботам о народном здоровье», посвященную распространению сифилиса в русских деревнях. В ней он, в частности, писал: «В Казани несколькими профессорами тамошней духовной академии, с г. Писаревым во главе, издается прекрасный журнал “Церковно-Общественная Жизнь”. Между прочим, под псевдонимом “Бытописатель” в нем помещает свои наблюдения и размышления сельский священник. Ряд статей и озаглавлен: “Из дневника сельского священника”. Прочел я последний его дневник и так и ахнул. Никогда в голову не приходило того, о чем рассказывает и чем затревожился этот священник; а между тем, дело так очевидно, бесспорно и каждый день губит или угрожает сотням и тысячам человеческих жизней, но только не явно и вдруг, а потаенно и медленно. И в какой момент, до чего невинным!
В дневнике от 23 ноября он записывает, что принесли в церковь окрестить шесть младенцев, с ними пришли и шесть кум, шесть кумовьев и шесть бабушек-повитух. Он всех записал в метрики. Вода была уже приготовлена, и он расставил бабушек по порядку: с мальчиками – впереди, с девочками – позади. Но только было приготовился начать крещение, как один из кумовьев подошел и прошептал ему:
– Батюшка, сердись – не сердись, а я с Феклистовым сыном своего крестника крестить не буду. У Феклиста-то и его хозяйки Маланьи носы-то стали проваливаться. Как бы от них и к нам эта болезнь не пристала, в одной-то купели да в одной воде коли будешь всех крестить. На селе-то давно уже все чураются их, сторонятся, значит, из одной посудины с ними не пьют и не едят.
Священник-“бытописатель”, конечно, исполнил его желание: ребенка больных родителей окрестил отдельно от прочих. Но, придя домой, он затревожился: “Ведь я и ранее тех же Феклистовых младенцев крестил заодно с другими, не меняя воды. Да и одна ли Феклистова семья на себе недосчитывает у себя носов? Сам я, хоть и пастырь, берегусь и не угощаюсь в этих домах. А о детях, о крещении и в голову не приходило. И что, если я при первом же таинстве незаметно и незнаемо распространил по селу сифилис”.
Признаюсь, когда я прочел это испуганное признание священника, я моментально и тоже испуганно вспомнил слова знаменитого московского врача Захарьина. По смерти его печатались разные воспоминания о нем, припоминались слова и мысли, им сказанные, и вот между ними была следующая: “Бедная наша Россия! С горем и страхом смотрю я на нее. Как тело больного лишаем покрывается отвратительными мокрыми пятнами, так я вижу всю нашу Россию покрытою пятнами зловонных заразительных болезней, из которых на первом месте стоит сифилис. В редкой уже деревне кто-нибудь не болен им, а есть деревни и волости, где им заражена четвертая часть населения, половина населения. И болезнь, по законам своим, распространяется неудержимо. Что будет дальше? Народ не понимает. А ведь с сифилисом идет смерть народная, вымирающее, больное и уже с самого рождения своего заражающее потомство”.
Много лет с болью ношу я в душе это изречение Захарьина, но никогда мне не приходило в голову, что, может быть, священники сыграли здесь роковую роль, – сыграли просто по необдуманности, по неоглядчивости. Общение в таинствах. Ведь, в самом деле, если на селе есть два-три зараженных сифилисом людей, то от них могут другие уберечься в остальном обиходе жизни, но при непременном общении при таинствах болезнь поползет».
60
В письме Флоренскому Розанов писал: «От зачатия (мать ее “вымолила”, дав обет, у Варвары Великомученицы – в Киеве – и зачала по обету, и беременная ею – ездила (на лошадях тогда) благодарить ее за исполнение. Она б. больна много лет “непрерывным выкидышем”, – и вот “если зачну и доношу – назову для Тебя ‘Варварой’”) – рассказ мне. Она и есть, и я верю “богоданная”».
61
И не потому ли, к слову сказать, знавшие об этом елецкие иереи согласились нарушить за одну тысячу рублей закон, что чувствовали перед невесткой неизбывную вину?
62
Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «В нашей семье сохранилась фотография архиепископа Иоанна, а на обороте фотографии была надпись моего отца: “Ионафан Архиепископ Ярославский, очень добрый, купил Шуре рояль, прислал через товарища по семинарии чиновника Писарева денег маме, когда она лежала в больнице в тифу, и все время присылал плату за учение в гимназии Шуре. В. Розанов”».
63
Ср. в «Мимолетном»: «И все-таки на конце всего скажешь: Бедный Герцен. Я его не любил, не люблю. Не уважал, не уважаю. Он чужой мне. Может быть, если бы где-нибудь у него не хватало таланта, я уже любил бы его. Но он был “счастлив, как бог”, а боги мне вообще противны. Так. И не могу забыть его. И где-то на далеком-далеком горизонте всегда будет облачко: “грусть о Герцене”».
64
Что касается М. О. Гершензона, то он действительно оценил розановскую книгу необыкновенно высоко: «Такой другой нет на свете – чтобы так без оболочки трепетало сердце пред глазами, и слог такой же, не облекающий, а как бы не существующий, так что в нем, как в чистой воде все видно и вместе трепетный, как самое сердце. Это самая нужная Ваша книга, потому что, насколько Вы – единственный, Вы целиком сказались в ней, и еще потому, что она ключ ко всем Вашим писаниям и жизни. Бездна и беззаконность – вот что в ней; даже непостижимо, как это Вы сумели так совсем не надеть на себя системы, схемы, имели античное мужество остаться голо-душевным, каким мать родила, – и как у Вас хватило смелости в 20-м веке, где все ходят одетые в систему, в последовательность, в доказательность, рассказать вслух и публично свою наготу».
65
Ср. также в «Уединенном»: «Как пуст мой “бунт против христианства”: мне надо было хорошо жить, и были даны для этого (20 лет) замечательные условия. Но я все испортил своими “сочинениями”. Жалкий “сочинитель”, никому, в сущности, не нужный, – и поделом, что ненужный. Церковь есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что лет 11 я делал все усилия, чтобы ее разрушить.
И как хорошо, что не удалось.
Да чем была бы земля без церкви? Вдруг обессмыслилась бы и похолодела.
Цирк Чинизелли, Малый театр, Художественный театр, “Речь”, митинг и его оратор, “можно приволокнуться за актрисой”, тот умер, этот родился, и мы все “пьем чай”: и мог я думать, что этого “довольно”. Прямо этого я не думал, но косвенно думал.
(14 декаб. 1911 г.).
* * *
Пусть Бог продлит мне 3–4–5 лет (и “ей”): зажгу я мою “соборованную свечу” и уже не выпущу ее до могилы. Безумие моя прежняя жизнь: недаром “друг” так сопротивлялась сближению с декадентами. Пустые люди, без значения; не нужные России. “Слава литераторов да веет над нами”. Пусть некоторые и талантливые, да это все равно. Все равно с точки зрения Костромы, Ельца, конкретного, жизненного. Мое дело было быть с Передольским, Титовым, Максимовым (“Куль хлеба”): вот люди, вот русские. А “стишки” пройдут, даже раньше, чем истлеет бумага.
(14 декаб. 1911 г.)».
66
«Я – через 8 лет размышления разгадал тайну христианства, и наконец вот-вот теперь, эти 2 года – 1-й в истории цивилизации разгадал Личную Тайну Иисуса и узнал 1-й в человечестве: “кто Он” или “Кто он”… Я думаю, это прямо неизмеримо. Таким образом при посредственных способностях и всей слабости девушки; все так сложилось во мне и вокруг меня, что нежность-то и преобразилась в “утонченнейшую ярость”, а кротость – в “храбрость курицы”, кидающейся на повара или Повара, хотящего зарезать ее цыплят. И…
Курица пошатнула весь столб христианства. Я совершенно точно знаю, после моей † сейчас же религия начнет меняться, преобразовываться. Что христианство не выдержит, и не может выдержать “напора” робкой курицы или разъяренной девушки, и когда мне “†”, то в то же время мне победа, а “†” всему теперешнему теизму, ну а с ним и культуре.
Но чтобы все это произошло, нужно было мне быть именно “костромичу”, “простецу”, “девушке”. 1000 и даже 1 000 000 Байронов ничего бы не сделало с христианством. Не та категория. Злом Иисуса не укусишь. Но поразительно, что он от добра – повалится, и тут раскрывается, что Он – не добр. “Эврика, эврика – он не благ!” Кто первый это открыл – повернул столб мира; кто это 1-й в себе почувствовал, ощутил, до великого страдания, но именно в простоте ясной и спокойной души – прямо начал новую цивилизацию.
Вот откуда моя забота “о священническом совете при Епископе”: не мое поле – но я и на нем работаю, как христианин, как Микула Селянович, как мужик. Просто – я добрый человек, работающий “и на врагов”. Даже христианам, моим врагам – работаю по крупице. Я-то христианам “устраиваю маленький развод”, устраиваю “совет при епископах”, а христиане, зная, что я религиозный и простой и добрый человек – не могут мне отдать моих 5-х детей, никакого зла им не сделавших, как и я им не сделал никакого зла, а моя добрая жена умела только молиться. “Темный лик” – он в костях моих зазвенел, он в костях моих зажег темное пламя; он потихоньку меня жалел, и наивная (я и наивен) закричала:
– Темный Лик! Темный Лик! Люди, смотрите – среди вас Темный Лик; он только делает вид, что плачет – он ни о чем не плачет, и Ему вы просто все не нужны, вы все жертва Его, бегите от него…»
67
В статье «Литературные итоги 1907 года», опубликованной в журнале «Золотое руно», Блок писал о Религиозно-философских собраниях: «Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, – вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мельканье слов». Розанов решил, что под «свояченицами в приличных кофточках» Блок имел в виду его падчерицу, и ответил поэту гневной статьей. Блок был задет и написал Е. П. Иванову о том, что, «не теряя к нему (Розанову. – А. В.) уважения вообще, не хотел бы подавать ему руки». Ср. также с воспоминаниями актрисы Драматического театра Комиссаржевской В. П. Веригиной: «В одно из посещений Галерной мы нашли Блока взволнованным и рассерженным. Он нам сейчас же показал номер “Русского слова” с ругательной статьей Розанова по его адресу… Александр Александрович, сердясь, говорил: “Это свинство, я не подам ему руки”, и действительно, так и сделал, высказав при этом свое негодование Розанову. Однако тот, как ни в чем не бывало, держал свою руку протянутой и говорил: “Ну вот еще, стоит сердиться, Александр Александрович. Вы задели мою свояченицу, я отомстил вам”». Впрочем, в «Опавших листьях» В. В. вспоминал этот эпизод иначе: «…после оскорбительной статьи о нем, – он издали поклонился, потом подошел и протянул руку».
68
Современный историк церкви С. Л. Фирсов объясняет эту разницу тем, что священник был назван при рождении Ярославом, но крещен Романом, так как имени Ярослав не было тогда в святцах.
69
Так, Д. А. Лутохин описывал в дневнике свой разговор с А. М. Ремизовым в 1924 году: «Он рассказывал о Розанове и о болезни Варвары Дмитриевны, что первый муж заразил ее сифилисом – и что наиболее поражена была падчерица В. В. – Александра Михайловна, что сам В. В. не был заражен».
70
Ср. у Ольги Матич: «Его первый доклад был посвящен древнему иудейскому обряду, согласно которому, в его представлении, молодожены совокуплялись в храме: он предлагал и Православной церкви ввести подобную практику. Это был характерный пример розановской провокации: он предлагал, чтобы после венчания пары оставались в церкви, пока не зачнут ребенка, как бы принимая на веру слова свадебного ритуала, что “брак честен, ложе не скверно”. Объединяя образы Ветхого и Нового Заветов, Розанов так описывает то, к чему приведет подобная практика: “пелена фата-морганы спала бы с глаз мира” и “раздралась бы завеса церковная”. Образ фата-морганы в интерпретации Розанова представляет собой покров иллюзии, заслоняющий от христиан правду половой жизни, а занавес символизирует девственную плеву, которая должна быть разорвана: нужно пролиться крови, дабы восполнить природу. Розанов обращается к стиху Нового Завета, где в момент смерти Христа раздирается завеса в храме, и это символизирует конец старой религии и победу новой. Его выступление было откровенно полемическим: в противоположность христианскому, духовному смыслу разодранной завесы розановский образ обожествляет дефлорацию и половой акт».
71
Ср. с мнением епископа Антония Храповицкого: «…это наши доморощенные богословы “Нового Времени”, уже открытые нигилисты, отрицатели догматов, будущей жизни, св. таинств, евангельских чудес, всего Ветхого Завета, принципиальные эротоманы, современные николаиты, интеллигентные хлысты, требовавшие на страницах “Нового Времени” таких невероятных вещей, чтобы после таинства брака супружеское совокупление совершалось в самом храме Божием – вероятно, при огромном количестве любопытных зрителей. Я думаю, что если бы для участия на Соборе пригласить в полном составе любую каторжную тюрьму, то она не могла бы в такой степени опозорить нашу св. веру и прогневать Бога, как подобные кандидаты в члены Поместного Собора».
72
А вот сам Мандельштам Розанова читал. Ср. его письмо В. В. Гиппиусу в 1908 году: «В Париже я прочел Розанова и очень полюбил его, но не то конкретное культурное содержание – к которому он привязан своей чистой, библейской привязанностью».
73
Ср. в письме Флоренскому от 7 декабря 1913 года: «Я пугливый человек, а испуг лишает сил. Я очень боюсь жидов. Они все захватывают и нас душат. Все, над чем я смеялся у Суворина (“Я боюсь евреев”), – я вижу теперь – правда, и мой смех был молод. Ничего так не жажду, как погрома и разгрома: “Вон, вон! Вон! Убирайтесь, куда знаете”. Никакого другого решения вопроса не может быть».
74
Ср. также в «Листве»: «“Я в Европе ничего не понимаю, и она мне совершенно не нужна. Не нужно ее христианство, не нужны ее царства, не нужны ее нации. Я – маленький торговец из Финикии. Живу – на время. Мне нужно – обрезание, мои дети и жена, бабушка и прабабушка. И эта вот лавочка, из которой я питаю их всех”. Вот философия еврея. Его философия, его религия и его политика».
В этом смысле прав современный философ и культуролог Андрей Тесля, когда пишет о том, «что эта “философия еврея” является одновременно и актуальным желанием самого Розанова, по крайней мере в той мере, в какой он выразился в тексте – а в нем, согласно ему же самому, он выразился весь, целиком (в чем и видел свой грех). Для Розанова “еврей” тем и страшен, что оказывается способен на практике к тому, к чему должен быть способен “русский”, как надлежит быть устроенной, по крайней мере отчасти, русской жизни – и чего Розанов в ней не находит».
75
Ср. в «Опавших листьях»: «Может быть, народ наш и плох: но он наш народ, и это решает все».
76
И это общественное равнодушие случилось не в первый раз. Ср. в статье Розанова «Отойди, сатана», опубликованной месяц спустя после убийства Столыпина в октябре 1911 года: «Несчастную и благородную семью Столыпиных точно распинают… Изуродовали 10-летнюю девочку – молчание; убили отца и мужа – молчание; но вот за убитого поднимает голос брат: и ему велят замолчать, ссылаясь на заповедь Христа о любви, которую он обязан теперь исполнить. Почему же “о любви даже и к врагам” (политическим) ничего не говорил в печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил Философов, ничего не говорила Соловьева, когда случилось несчастие на Аптекарском острове? Что, изранение 10-летней девочки сказало ли что-нибудь их сердцу? Ничего. “Не наша кровь пролита, все равно”».
77
Ср. также в «Мимолетном»: «А если бы вдруг “трупик мальчика” нашли у попа во дворе. Если бы его тащил за руку поп?
Еще лучше – монах, схимник, епископ “на покое” и вообще темный человек…
Подняла бы печать трезвон, и показало бы себя русское общество… Нет: показало бы себя “русское общественное мнение”».
78
Н. В. Розанова цитирует в своем дневнике слова В. В. Гиппиуса, касающиеся этого сюжета: «Когда я узнал о вашем приезде, я очень захотел вас увидеть, чтобы сказать об одном. Это грех моей жизни, это подлость, которую я сделал в жизни… Когда решили Мережковские исключить вашего отца из Религиозно-философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходок исключать таких членов, как Розанов. Пусть все, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остается как писатель. Я им прямо сказал: “Если бы это сделали Толстой, Соловьев, Достоевский, – исключили бы вы их?” На это Философов сказал, что им необходимо исключить его как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей… Знаете ли вы о существовании в Религиозно-философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковским. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова».
79
В этой достаточно хорошо изученной, собравшей обширную научную и ненаучную библиографию истории есть еще одно обстоятельство. Экспертом-психиатром, выступившим в защиту Бейлиса, был не кто иной, как Владимир Михайлович Бехтерев, коего Розанов считал главным виновником своего семейного несчастья. Сыграло это или нет какую-то роль в позиции В. В., утверждать сложно, но факт есть факт, а главное, это еще раз доказывает, как все было запутано, сплетено, будто нарочно подстроено в розановской судьбе.
80
Ср. в дневнике Чуковского: «Был у Розанова. Впечатление гадкое. Жаловался, что жиды заедают в гимназии его детей. И главное чем: симпатичностью! Дети спрашивают: – Розенблюм – еврей? – Да! – Ах, какой милый. – А Набоков? – Набоков – русский. – Сволочь! – Вот чем евреи ужасны».
Если учесть, что сын Розанова учился в Тенишевском училище вместе с Владимиром Набоковым, то речь, скорее всего, идет именно о нем.
81
Впрочем, по свидетельству Аарона Штейнберга, Блок голосовал против исключения Розанова. «Надо сказать, что я был против исключения Розанова, хотя и не голосовал, так как не был полноправным членом Религиозно-философского общества. Я имел право присутствовать на собраниях без права голоса. В той ночной беседе с Александром Блоком я услышал от него самого, что он голосовал против исключения Розанова, так как был тогда склонен к очень отрицательному отношению к евреям. Я рассказал ему очень подробно о своей встрече с Розановым. Блок необычайно заинтересовался этим. Ему несомненно приятно было слышать, когда я сказал, что тоже был против исключения Розанова, сказал об этом его дочери и, кроме того, дал “честное слово”, что приду к ним».
82
Ср. также с очень интересной записью из дневника М. М. Пришвина 19 января 1914 года (то есть неделей раньше, когда состоялось предварительное обсуждение розановского вопроса, но не было кворума): «Собрание Религиозно-философского общества для исключения Розанова. Когда-то Розанов меня исключал из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой: всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского. Сутолока, бестолочь, какой-то армянин в решительную минуту добивается слова, чтобы сказать: “В Религиозно-философском обществе аплодисменты не допускаются”. Кто-то просит изменить “параграф”. Гиппиус же [молчит] и щурится, изображая кошечку. Карташов взводит очи горе. Мережковский негодует. Вячеслав Иванов настроился на скандал. Чулков говорит об антиномии. Стахович спрашивает, что такое антиномия. Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы, баптисты, попы, восточный человек, увесистые хайки и честнейшие ученые жиды. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос… Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова, и сам Розанов пишет в “Уединенном”: “За что (Мережковский) меня любит?” А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова из Религиозно-философского общества. Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти в голову – исключить основателя Религиозно-философского общества, выгнать Розанова из единственного уголка русской общественной жизни, в которой видно действительно человеческое лицо его, ударить, так сказать, прямо по лицу. И мало ли еще чего возмущались: говорили, что это вообще не по-русски как-то – исключать и много другое. Какая-то девственная целина русской общественности была затронута этим постановлением совета, и люди самых различных партий, толков и между ними настоящие непримиримые враги Розанова – все были возмущены. Словом, произошло полное расстройство общественных основ этого маленького Петербургского муравейника, где время от времени собираются чрезвычайно разнообразные люди высших интеллигентных профессий. И замечательно, что все эти расстройства общественного во имя самой общественности. Я очень хорошо понимаю Мережковского и лиц его окружения в совете. Понимаю мучительное состояние верующего или страстно желающего верить и в то же время проповедовать в обществе воистину мертвых (мертвые восстанут, но когда!). Мережковский пытался уже испробовать организацию секций, в которых могли бы собираться более активные люди, подбирал молодежь, но эти секции [лишь только] говорили о Боге, а действия все равно никакого не было, почему? оставляю вопрос до будущего. Но вот настал подходящий случай – дело Бейлиса: вот где, казалось бы, можно высказать. Ожидали, что общество [временно] будет закрыто, но демонстрации не вышло, был до смешного жалкий вечер, где Ветхий завет перепутался с делом Киева, какая-то смесь, винегрет киевской черешни и ветхозаветной смоковницы. А в это самое время Розанов и писал свои наиболее возмущающие общество статьи. Конечно, виноват во всем Розанов, с ним работать нельзя, нужно отделаться. Совет ценою собственного существования поставил вопрос об исключении: если Розанова не исключат, Совет уйдет.
– Розанов тогда может быть здесь первый человек! – сказал Мережковский.
А в это время как раз кто-то крикнул:
– Это у вас от лукавого!
[Возможно], да, но не совсем, я вполне понимаю Мережковского, его душевное состояние и сломанные стулья. Возмущаются просто фактом исключения, но это не просто исключение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мережковский этим отсекает любимейшее существо, Розанова, который сам удивлялся: “За что он меня любит!” Розанов для Мережковского не просто облик Розанова, а “всемирно-гениальный писатель”, какой-то предтеча Антихриста, земля, Пан и мало ли, мало ли что. От всего этого нечистого он теперь отсекается, а члены Религиозно-философского общества возмущаются чисто по-обывательски. Мережковский вообще совершенно не способен быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови. Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим. В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:
– Накормите меня.
Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал:
– Падаль, падаль!
Это была, конечно, чисто философская “падаль”, то есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую – и пошло, и пошло.
Вот то же происходит и теперь в Религиозно-философском обществе, и все [наше] общество поступит по законам обычной этики: “падаль”, и не поймет, и не пойдет за Мережковским. Но не будем сильно обвинять обывателей, потому что ясно, в этом призыве Совета не хватает одного, тоже необходимого звена человечества, которое мы назвали бы мудростью».
83
Ср. в «Мимолетном»: «Да, они необходимы политически, но что же это такое: они придут к вам, изломают вашу мебель, истопчут сапогами ваш ковер, пусть бедный, но все-таки чистенький, а главное – разуются, поставят оба сапога около стула и если заметят, что вы не разделяете их взглядов на Антония Храповицкого или на киевского губернатора, то начнут вас колотить правым сапогом по левой скуле, а левым сапогом по правой скуле. Я патриот, но не желаю до такой степени страдать за отечество. Я желаю, чтобы мой ковер не рвали и мебель оставили в целости (“наши националисты”)».
84
Ср. в «Сахарне»: «Вчера с вечера все звонили по телефону: один —
– Это квартира г. Розанова?
– Да.
– Кто у телефона?
– Розанов.
– Сам г. Розанов?
– Да.
– Поздравляю вас с окончанием процесса Бейлиса. Оправдали.
– Кто говорит?
– Поздравляю… от лица Шнеерсона…
– От какого “Шнеерзона”?
– О котором вы писали в вашей поганой газете.
– От поганого дурака слушаю».
85
Ср. в «Сахарне»: «День оправдания Бейлиса. И “мне в нос” (были ссоры) в собственном дому “учащаяся молодежь” поспешила в кинематограф.
Есть “подруги” из евреек.
Я понимаю “кинематограф на радостях”. Но неужели у девушек никакого воспоминания о Ющинском?
Тут-то освещается все явление за 50 лет: и “Цюрих”, и наши там девицы. Все это уже тогда не русское движение… В собственных детях иногда я вижу ненавидение отчества. Да и как иначе? – вся школа сюда прет. Радуйся, Гоголюшко. Только не радуйтесь, мои дети».
86
«– Так вы хотите поговорить о ритуале? Пожалуйста, пожалуйста.
Поглядывая поверх плеча своего собеседника слева, размешивая ложечкой сахар в чае, я старался не разминуться с глазами Розанова. Я вкратце напомнил ему, что он писал о прирожденном вегетарианстве евреев, подчеркнул, что получил хорошее еврейское образование и точно знаю, что в еврейском религиозном обиходе нет и не может быть места для употребления человеческой крови, а потому…
– Такой молоденький, – прервал меня Розанов, – и уже хотите знать все тайны иудейской веры! Да об употреблении крови на Пасху известно, может быть, всего-то лишь пяти или, самое большее, семи старцам в Израиле.
– Так как же вы знаете?!
– Я? Я верю. Да я уверен в ритуале. А как узнал? Носом! И не смотрите на меня так, точно хотите испепелить. Конечно, я верю в ритуал. Помилуйте, как могло быть иначе? На чем держится еврейство целые тысячелетия – без земли, без государственной власти, даже без общего языка, и как еще держится, как сплоченно, как единодушно – этакое без крови невозможно. Я чую эту кровь носом (и в подтверждение он раза два втянул носом воздух и прибавил, как бы наслаждаясь: “Вот!..”). Помилуйте! Оглянитесь кругом! Как это происходит?! Чуть те, кому полагается за этим наблюдать, замечают, что народная сплоченность ослабевает, что единство Иудейского племени под угрозой, вот, как в наше время, так сразу пускается в ход наиболее верное средство: кровь! Чуете?.. кровь замученного, согласно с древним ритуалом, христианского младенца. Ничто не слепляет так людскую глину в твердый ком, как липкая человеческая кровь. Вы этого еще не знаете, а они знают… Посмотрите только, как все стали заступаться за какого-то безвестного Бейлиса… Да и “шабес-гои” не отстают, и прислужники евреев бьют в те же литавры, не исключая вашей “Русской мысли”. В России все плохо, хороши одни евреи… Так надо же кому-нибудь и за правду заступиться и на евреев пальцем указать. Да, я положительно верю в ритуал!
Я слушал Розанова, как во сне, не спуская с него глаз, – неужели действительно он верит? Но почему же чем более горячо и быстро он говорит, тем упорнее избегает смотреть мне в глаза? Неужели боится, что я могу увидеть его насквозь? А он продолжал, ища еще более убедительных доказательств в пользу своей “веры”, продолжал еще более торопливо и все громче и громче:
– Да посмотрите сами: все наше для вас погано, мерзко. “Трефное”. Вот и вы, хоть и философ, не прикоснулись ни к чему, что моя дочь перед вами поставила. И не смотрите на меня так пронзительно, – сами знаете, что с этим и спорить невозможно. Трефное, так трефное.
Громким возбужденным своим голосом хозяин, может быть, и намеренно, вовлек в наш “диалог” весь стол. Покуда он делился со мной своими разоблачениями, я миг-другой употребил на то, чтобы разобраться в обстановке. Кроме Тани, я успел приметить известного драматического артиста Юрьева и еще одно как бы полузнакомое лицо – человека средних лет в оживленной беседе с молодой особой, похожей на Василия Васильевича, старавшегося одновременно уловить кое-что из разгоравшегося словесного поединка между хозяином и его еврейским гостем. Мое давешное предположение, подумал я, не столь уже фантастично. Я попал, очевидно, на еженедельное розановское Воскресенье, как редкий “аттракцион”, как участник с еврейской стороны в полу-публичном диспуте о кровавом навете с самим Розановым, и публика, в частности, спорящий с дочерью, надо полагать, старшей, Розанова, господин уже начинает терять терпение… Все это побудило и меня безотчетно повысить голос:
– Ради Б-га, Василий Васильевич! – прервал на этот раз я его, смотря в упор в его водянистые глаза. – Вам же доподлинно известно, что если я не прикасаюсь к ветчине на вашем столе, то это не потому, что стол ваш, а потому, что ветчина – это свинина, да, нечто “трефное”, то есть пища недозволенная по еврейскому ритуалу, вот по тому же ритуалу, который строго-настрого запрещает евреям употреблять в пищу кровь! Вы, Василий Васильевич, ведь сами так хорошо об этом писали! Как же…
У меня чуть не сорвалось: “Как же вам не совестно!” Но я вовремя спохватился. Впрочем, Василью Васильевичу и без моего укора было совестно. Его седая голова как-то неестественно втянулась в плечи, и он растерянно обводил глазами стол. И ему, и мне пришел на помощь тот самый полуседой господин, которому давно, очевидно, хотелось вмешаться в диспут.
– Нет, Василий Васильевич! – пересек он хриплым голосом полстола. – В этом, как вы знаете, я с вами расхожусь. Я тоже не верю в ритуал…
Меня поразила весьма заметная еврейская интонация нового “диспутанта”, а Василий Васильевич почему-то развеселился и тут же, совершенно примирившись со мной, шепнул мне ласково на ухо: “Вы его знаете? Это Эфрон, автор знаменитых ‘Контрабандистов’…” Именно это почему-то очень смешило Розанова. Автора юдофобской пьесы я видел в натуре впервые, но с детства помнил, какие скандалы были связаны с ее постановкой в Малом театре Суворина. Стало и мне смешно. По многим причинам. Мог ли я когда-либо предположить, что буду сидеть за одним столом с этим злостным юдофобом и что как раз он подаст голос за меня? Но всего комичнее было то, что завзятый юдофоб еврейского происхождения своим картаво-певучим говором как бы издевался над самим собой. Однако творец “Контрабандистов”, ничуть не смущаясь, продолжал:
– И в этом я тоже расхожусь, – особая пища не имеет ничего общего с ритуальным изуверством. Когда я в студенческие годы был старообрядцем, помню, как наши студенты приходили в университет со своей посудой, потому что им претило пить из общеупотребляемых кружек даже воду из-под крана. Вы разве никогда не слышали, Василий Васильевич?
– Ладно, ладно, – смеялся Розанов, – коли вы все против меня: и евреи, и старообрядцы, да и собственные мои дочери, бросим о ритуале. Но о евреях я все-таки доскажу…
Около нас остались лишь Эфрон и Таня. Интерес за столом иссякал. Мое появление не повело ни к какой сенсационной словесной дуэли, ни к какому кровавому бою быков. Но был разочарован и я. Мой первоначальный импульс был понять, с участием самого автора “Темного лика”, “Людей лунного света” и “Введения к Достоевскому” и прочего и прочего, что толкнуло его к столь загадочному самоотречению, но я никогда не ожидал, что услышу от него избитые вариации на затасканные темы Меньшикова, нововременного эксперта по жидоедству.
– Нет, – продолжал катиться по наклонной плоскости Розанов, – скажите сами, как это объяснить без всяких ритуалов, что все евреи, как один, только и делают, что поносят Россию на чем свет стоит, не находят в ней ничего решительно хорошего и готовы продать за алтын?.. А у них-то самих разве все так благополучно? Неужели не за что хоть разок, для разнообразия что ли, себя самих поругать?!
– Вот тут, дорогой Василий Васильевич, – воскликнул восторженно создатель “Контрабандистов”, – я с вами совершенно согласен. Евреи страшно самолюбивы, они могут из самолюбия…
– Погодите, доро-гой, хотя и вы не “гой”, – прервал Розанов неуклюжим своим каламбуром Эфрона, – дайте досказать. Дело не в еврейском самолюбии, а в их беспримерной настойчивости. Только и думают, как бы поскорее упрочить свою власть над нами… А для этого нужно добывать деньги какими угодно средствами… Вот прошлым летом я наблюдал в Бессарабии, как еврейские лавочники постоянно обвешивали съезжавшихся на базар мужиков…
– Василий Васильевич! – вскричал я против воли. – Разрешите и мне слово вставить, и как ни разочарован был… [запись обрывается]».
87
Ср. также в письме Флоренского Розанову 1 февраля 1914 года: «Я спросил нашего крещеного еврея Сергея Федоровича Паперну, как относятся евреи к такому отношению, как у В. В. Розанова и у меня, т. е. с признанием религиозной глубины. Он отвечал: “Разумеется, таких, как Вы, они считают главными врагами. Пуришкевич нападает бессознательно, а Вы подкапываетесь под еврейство сознательно”. И что-то еще сказал, что этого они не простят или что-то в таком роде».
88
Из стихотворения Арсения Тарковского «Первые свидания».
89
Так, в книге о Михаиле Булгакове я цитировал письмо его двоюродного брата Константина Петровича Булгакова Надежде Афанасьевне Булгаковой: «Что ты думаешь про дело Бейлиса? Мне кажется, что его обвинят, почему-то такая у меня уверенность. Дело это выбило Киев из колеи. Страшно мне хотелось попасть хоть на одно заседание, но, кажется, это не удастся. Сильно ли им у вас интересуются? Здесь все следят за газетами. Если бы ты вошла теперь в столовую часов в 8 вечера, то ты бы ее не узнала. Нет воплей Лельки, избиваемой Ванькой, исчезли блошки, притихли балалайки. Все тихо. За столом, заваленным газетами, сидят, склонившись, все от мала до велика над Киевской мыслью, Новым временем, Южной копейкой, Последними новостями, изредка проскальзывают номера Киевлянина, еще реже Двуглавого орла. В доме тихо и спокойно. Дебаты происходят уже за ужином и в то время, когда приходит Миша. Какого ты мнения об экспертизе Павлова? В Новом времени приблизительно числа 18-го, а может и позже, была одна статья, очень остроумная об экспертизе Павлова. Я дал ее прочесть одному лицу, которое было высокого мнения об экспертизе, чтобы посмотреть, какое она произведет на него впечатление. Когда он ее прочел, у него был вид, словно его вдарили по морде. Процесс замечателен тем, что в нем масса битого народу. Я сперва начал подсчитывать, насчитал семь человек. Потом сбился и бросил. Сперва поколотили Шаковского, затем он кого-то колотил. Затем Вера Чеберяк била Мифле, а затем в свою очередь он бил ее, причем ее кто-то держал, чтобы она не спряталась, так как Мифле слепой. Потом кого-то били у какой-то канавы. Какое, по-твоему, самое глупое показание? По-моему, Дьяконовой. Больше, по-моему, завраться нельзя. Мне рассказывал один мой товарищ, который был на заседании, как раз когда она говорила, что весь зал сплошь хохотал. Между прочим, он говорил, что в зале суда настроение совершенно иное, чем описывается в “Киевской мысли”, и что ее освещение дела совершенно не соответствует действительности. То же говорит и Миша, у которого некоторые знакомые были там. А слыхала ли ты, почему показания Пранайтиса (?) так неудачны или до вас до Москвы это еще не дошло? А в Киеве ходят уже слухи, что он тоже подкуплен! В общем, тут сейчас весело».
90
Ср. также в воспоминаниях Д. А. Лутохина, который перечислял гостей розановского дома: «Зак – музыкант, давал уроки детям Розанова, и им как будто увлекалась А. М. Бутягина».
91
Ср. в письме Ю. Иваска А. Н. Богословскому: «В. В. паук, сосавший кровь семьи, Достоевского, России, всего мира, хр-ва, иудейства, но сам был счастлив, когда мечтал и писал. Розанов – великое разложение до самого конца, и это разложение было не только в нем и в его поклонниках… При наличии паучьего – тут же душевность, сердечность, и это еще ужаснее».
92
Не только читает, но и пишет. Не исключено, что именно перу Н. А. Вальман принадлежит рецензия на «Опавшие листья», опубликованная в 1913 году в «Историческом вестнике» за подписью Н. Вальманъ. Некоторые исследователи пишут об этом тексте как о рецензии Н. Вальмана, однако слишком много здесь личного, домашнего, говорящего о знакомстве автора с семьей Розанова и с ним самим, что дает основание полагать, речь все-таки идет именно о Наталье Аркадьевне. Приведем ее размышление целиком (в старой орфографии по оригиналу), тем более что оно по-своему высвечивает образ женщины, о которой В. В. наговорил столько резких слов:
«Говорить о книгѣ Розанова – значить говорить объ его душѣ. Въ его книгѣ вылилась его душа; вылилась подлинно, живо, стихійно. Стихійность – только этимъ словомъ объясняется его творчество; такое необычное, такое странное. Я не знаю писателя, чья интимная жизнь такъ непосредственно переливалась бы въ слово, передавалась имъ.
“Я – самый не реализирующійся человѣкъ”, сказалъ онъ о себѣ въ “Уединенномъ” и сказалъ глубокую правду. Стремленіе реализироваться, быть свойственно человѣку; природа, стихія никуда не стремятся – она просто есть, таковъ и Розановъ. Его нельзя понять, какъ писателя, не понявъ его, какъ человѣка. Все когда-либо написанное имъ было лишь точной передачей словомъ своихъ душевныхъ переживаній – каковыми бы они ни были. Только себя писалъ онъ, хотя бы его слова говорили о церкви, общественности или о половомъ вопросѣ. Тѣмъ выпуклѣе вырисовывается это себя въ глубоко-интимной послѣдней книгѣ. Здѣсь, какъ и въ “Уединенномъ”, Розановъ раскрываетъ свою душу до ея почти несознанной глубины, раскрываетъ ее въ словахъ нѣжныхъ, художественныхъ, иногда тусклыхъ и усталыхъ, но всегда правдивыхъ, – какъ правдива природа, производящая рядомъ колосъ ржи и его же глушащій василекъ.
Попробуйте забыть стихійность души Розанова – и придется часто ужаснуться его откровенному цинизму. На страницѣ 279 “Опавшихъ листьевъ” онъ пишетъ: “Я самъ убѣжденья мѣнялъ, какъ перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крѣпки ли), чѣмъ убѣжденіями (своими и чужими)”. Розановъ безпощадно разбиваетъ путы и старой морали, морали смиренія и самоуничтоженія: “На мнѣ и грязь хороша, потому что это – я” (“Опавшіе листья”, стр. 270); не лучше ладить онъ и съ моралью новой, утверждающей лишь свою волю, свое “хочу”. Циникъ, – скажетъ хладнокровно читатель. Нѣтъ, циникъ не могъ написать (для Розанова значить перечувствовать) слова: “Только горе открываетъ намъ великое и святое” (“Опавшіе листья”, стр. 321); циникъ не могъ так почувствовать религію:
Тихія, темныя ночи…
Испугъ преступленья…
Тоска одиночества…
Слезы отчаянья, страха и пота труда,
Вотъ ты, религія…
Помощь согбенному…
Помощь усталому…
Вѣра больного…
Вотъ твои корни, религія…
Вѣчные, чудные корни…
(“Уединенное”, 260 страница).
Ну, роль играетъ, интересничаетъ, скажутъ другіе, – и опять не то. Приведенныя выше выписки не могли вылиться изъ души фигляра, – актеру надо угодить зрителямъ, а Розановъ одинаково чуждъ всѣмъ – церкви и позитивистамъ, правой и лѣвой. Онъ чисть, какъ природа, вѣрнѣе, амораленъ, какъ она, и, какъ она же, не подлежитъ этическимъ категоріямъ. Грѣшныя мысли приходили въ голову и святымъ – только тѣ, сознавая ихъ, боролись съ ними; обыкновенные люди сознательно же ихъ скрываютъ, а Розановъ, переживая ихъ стихійно, переливаетъ ихъ въ слово, – природа не скрываетъ порождаемыхъ ею гадовъ и ядовитыхъ растеній.
Для природы нѣтъ хотѣнія помимо бытія, – для Розанова нѣтъ жизни, не переходящей въ слово. Всѣ мы въ жизни нерѣдко мѣняемъ свое отношеніе – къ людямъ и фактамъ: когда боленъ дорогой для насъ человѣкъ, мы не станемъ слушать Гофмана, который въ другое время доставляетъ намъ громадное наслажденье. Только мы сознаемъ причину, измѣнившую наше отношеніе, – для Розанова не существуетъ этого регулирующаго сознанія, – отсюда его противорѣчивые отзывы объ однихъ и тѣхъ же людяхъ и явленіяхъ, отзывы, принесшіе ему столько тяжелыхъ обвиненій.
Стихія не сознаетъ самую себя; Розановъ, кажется, совершенно лишенъ чувства природы, пейзажъ не затрагиваетъ ни одной струны въ его душѣ.
Тотъ, кому приходилось много бывать на воздухѣ, знаетъ, чго въ самой ликующей природѣ, въ ясномъ утрѣ и пѣснѣ жаворонка, въ пробужденіи свѣжаго лѣса отъ ночного сна – чувствуется какая-то мистическая грусть, грусть увяданія и заката. Этой грустью напоена душа Розанова: “Грусть – моя вѣчная гостья” (“Опавшіе листья”, стр. 164); “Основное, пожалуй, мое отношеніе къ міру есть нѣжность и грусть” (“Опавшіе листья”, стр. 303).
Въ “Опавшихъ листьяхъ” есть портреты членовъ семьи самого автора. Только полной непосредственностью, стихійностью душевной жизни можно объяснить этотъ странный фактъ; для писателя – это цинизмъ; для Розанова просто само бытіе. Я ими (близкими людьми) живу, – значить, я о нихъ пишу. Для Розанова между жизнью и написаннымъ словомъ, пожалуй, нѣтъ даже простой послѣдовательности во времени, – онъ пишетъ, слушая музыку своей души.
“Опавшими листьями” назвалъ Розановъ свою книгу – но листья еще не пожелтѣли, они на стволѣ, полномъ жизненныхъ соковъ.
Н. Вальманъ».
93
Ср. в статье С. В. Фомина «Чисто ли твое око? Григорий Распутин в восприятии Василия Розанова»: «М. Ф. Жербин, записавший рассказываемые его бабушкой (по происхождению лютеранкой) воспоминания, так передавал запомнившееся ему: “Судьба связала с Распутиным и мою бабушку Антонию Августовну. Будучи подругой дочери Карла Фаберже (они вместе учились в художественно-промышленном училище Штиглица), бабушка была приглашена в ее дом на вечер, где присутствовал среди гостей Распутин. Во время чаепития Распутин опустил руку в вазочку с вареньем и предложил желающим молодым дамам облизать его пальцы. Желающие нашлись. Посмотрев на мою бабушку, на лице которой было отвращение, Распутин сказал ей: “Что, гордая очень?”».
94
Мужик
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег…
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот – светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
Как не погнулись – о, горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?
Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.
– «Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите…
Кто защитит сироту?
В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».
95
«Есть у Гумилева стих – “Мужик” – благополучно просмотренный в свое время царской цензурой – с таким четверостишием:
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси…
В этих словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей этой туче. Что в этом четверостишии? Любовь? нет. Ненависть? нет. Суд? нет. Оправдание? нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес – крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) – Боже, спаси! – (знает: не спасет!) обворожает Царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Руси – не знаю как других, меня это “необозримой” (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает – ножом.
Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой буквы еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц – силой вещей и верст. Четыре строки – и все дано: и судьба, и чара, и кара.
Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу бо́льшую, чем у певчего – сильней которого силы нет, описывать – песню! (Как в школе: “своими словами” лермонтовского Ангела, да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского – и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)
Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием “Мужик”, стихотворение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине – незамеченное. А если есть в стихах судьба – так именно в этих, чара – так именно в этих, История, на которой и “сверху” (правительство) и “сбоку” (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе – так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот же день и час входила – в сапогах или валенках (красных сибирских “пимах”) пешая и неслышная по пыли или снегу.
Надпиши “Распутин”, все бы знали (наизусть), а “Мужик” – ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще – лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя – не проставляют – кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту – по себе знаю! – несравненную радость в сокрытии открытия».
96
«Кстати, знаете ли Вы таинственное слово, какое мне сказал Григорий Распутин? Но сперва о слове Феофана, “праведного” (действительно праведного) инспектора Духовной Академии в Спб. Сижу я, еще кто-то, писатели, у архимандрита (и цензора “Нов. Пути”) Антонина. Входит – Феофан, и >1/>4 часа повозившись – ушел. Кажется, не он вошел, а “мы вошли”. Когда Антонин спросил его: “Отчего Вы ушли скоро”, он ответил: “Оттого, что Розанов вошел, а он – Дьявол”. Теперь – Распутин: он танцовал, с замужнею, с которою и “жил”, и тут же, при ее муже, говорил об этом: “вот и жена его меня любит, и муж – любит”. Я и спрашиваю его: “Отчего вы тогда, Григорий Ефимович, ушли так скоро?” (от отца Ярослава, с женою коего он тоже “жил”, и о. Ярослав тоже “одобрял” это. Тут вообще какая-то Райская история, Эдем “общения жен и детей”). Он мне ответил: “Оттого, что я тебя испугался”. Честное слово. Я опешил…
Я помню, он вошел. Я – уже сидел. Ему налили стакан чаю. Он молча его выпил. Положил боком на блюдечко стакан, и вышел, ни слова не сказав хозяевам или мне. Но если это – так, если (он) не солгал в танцующей богеме, притом едва ли что знал (наверное – не знал) об Аписах и Древности: то как он мог, впервые в жизни меня увидев и не произнеся со мною даже одного слова, по одному виду, лицу (явно!) определить всего меня в ноуменальной глубине, – в той глубине, в какой и сам я себя не сознавал, особенно – не сознавал еще тогда. Я знал, что реставрирую Египет; все в атласах его (ученые экспедиции) было понятно; я плакал в Публичной Библиотеке, говоря: “да! да! да!” Так бы и я сделал, нарисовал, если бы “пришел на мысль рисунок”, но “самого рисунка не было на мысли”, не было дерзости в моей мысли, смелости, храбрости выговорить: а чувство было уже… даже и до поцелуя Аписовых яиц. То вот – Гришкин испуг: не есть ли это уже Гришино Чудо. Чудо – ведения, уже – сквозь землю, и скорее – моего будущего, нежели (тогда) моего “теперешнего”. Согласитесь сами, что это напоминает или вернее что это “истинствует” “сану Аписа” в его какой-то вечной истине. Т. е. что я + Гришка, Гриша + Апис есть что-то “в самом деле”, а не миф».
97
«4 девушки, две курсистки, 1 учительница музыки, и 1 “ни то, ни другое”, но симпатичнее всех на свете курсисток, и даже еще одна, уже пятая, и “почти одна”, на Кавказе (никогда меня и не видавшая) хотели “отдаться” мне, отдавались мне, на почве лишь безграничного моего к женщинам уважения, на почве в сущности той, что я сам на женщину смотрю, ее почитаю и чту, как Аписиху. Причем 1 видела меня только один раз, была лесбийски связана с другою благороднейшею девушкою; и она, эта девушка, с которою она была связана, сама оставила меня “для ласк” с нею, и она меня стала “ласкать”, а потом и совокупилась со мною, когда “он встал”. Не чудо ли это, не сущее ли чудо? Чудо близости какой-то ноуменальной. И клянусь Вам, – о, слишком клянусь: из 4-х или даже пяти – не было ни единой сколько-нибудь развратной, сколько-нибудь распущенной, сколько-нибудь “позволяющей себе”… “все наши наслаждения” сводились к solo: “половые прикосновения”. Ни – любви, ни – “объяснений”. И вместе: и – любовь, и – нежность. В основе, на дне: безграничное мое уважение».
98
Ко всему этому можно добавить размышления Зинаиды Гиппиус, которая едва ли была осведомлена о личной жизни философа в 1910-е годы, когда их отношения фактически сошли на нет, но тем не менее понимала и чувствовала Розанова очень хорошо: «На ревнивых жен Розанову везло. Ну, та, первая, подруга Достоевского, – вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая “Варя”, мать его детей, женщина скромная, благородная и простая – тоже ревновала его ужасно.
Ревновать Розанова – безрассудство. Но чтобы понять это – надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.
Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него – его жена, и она единственная, но эти другие – тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные особенно радовали. Интересовали и девушки – будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные – и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. “Бабьего”, как он говорил.
(Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале “Елизавета Сладкая”. И огорчился, что мы не позволили.)
Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще к окружающим. Если с интересом порою – то уже без специфического оттенка в интимности.
Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к “женщине” было у Розанова только “идейным”. Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют “грехом”, фактической “изменой”. Может быть, да, может быть – нет. Неинтересно, ибо это ни малейшего значения не имеет, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает – ощущает – свою органическую верность.
“Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность.
Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять”.
В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в “другую” женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с “Варей”, чтобы жениться на этой другой? О ком угодно – можно, о Розанове – непредставимо! И если все-таки вообразить – делается смешно, как если бы собака замурлыкала.
Собака не замурлычет. Розанов не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен – “ноуменально”.
Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к “женщине”, к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.
Розановская душа, вся пропитанная “жалением”, не могла переносить чужого страданья. Единственно, что он считал и звал “грехом”, – это причинять страданье.
“Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы – это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть”.
Что же ему делать, чтобы не видать страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным; страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает – никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать? И он при ней изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глупым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому; в жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения понемногу начал скрывать от жены. На всякий случай, – а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.
В “секреты” розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял – вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не “выдавать” его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, “чтобы она была спокойна”.
Он действительно заботился только о ее спокойствии; о себе – как бы по неловкости не “согрешить”, т. е. недостаточно уверенно соврать. Ведь – “…я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения ‘встать’ и ‘сесть’. Просто не знаю, как. Никакого сознания горизонтов…”
Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: “Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!” Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату; не услышат и будут правы: у них свои.
“Даже и представить себе не могу такого ‘беззаконника’, как я сам. Идея ‘закона’ как ‘долга’ никогда даже на ум мне не приходила.
Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. ‘Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснять слабых. И только дурак ему повинуется’. Так, приблизительно…
Только всегда была у меня Жалость. И была благодарность. Но это как ‘аппетит’ мой; мой вкус.
Удивительно, как я уделывался с ложью. Она меня никогда не мучила… Так меня устроил Бог”.
“Устроил”, и с Богом не поспоришь. Главное – бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во “лжи”, в “безнравственности”, в “легкомыслии”. Это все наши понятия. Легкомыслие? —
“Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение”.
Дайте же ему “невеститься”. Тем более что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?»
99
Ср. в «Мимолетном»: «Вчера весь день провалялся, t°39. Растирания и прочее. Помогло.
Сегодня Таня подбегает к кровати и, обвивая руками шею, спрашивает:
– Ну как мой КУКЛЮЧИК поживает?
Что за филология.
– Как, Таня? Что такое?
– Куключик. П. ч. вы с мамочкой КУКУЛЕЧКИ. Самые маленькие наши деточки».
100
Ср. ее продолжение: «Только в глубокой старости можно вспоминать дни детства и юности, смакуя былые наслаждения. И Розанов, мистик Розанов, в котором были гениальные прозрения, обожествляет блага и радости этой жизни, поклоняется семейному благополучию, с детским вожделением смотрит на сладость варенья и незаметно скатывается к апологии обыденности и мещанства. Благополучную жизнь натурального рода он отождествил с миром. Он хотел бы окончательно обожествить жизнь натурального рода. Но мы видели уже, что этот дорогой Розанову “мир” весь подчинен закону тления, а Розанов не в силах умереть так, как умирали Авраам, Исаак и Иаков, благословляя потомство свое, в нем нет такой силы безличности, хорошей лишь для той мировой эпохи; даже он не согласится жить лишь в потомстве своем, и он глубоко задет последующими фазисами мирового религиозного откровения, и его кровь отравлена Иисусом Сладчайшим. Реставрация никогда ведь не бывает тем, что она реставрирует».
101
Подробнее об этом в нашей книге «Григорий Распутин-Новый» в серии «ЖЗЛ».
102
В этом смысле очень характерен фрагмент из воспоминаний Н. В. Розановой: «За обедом папа, сидя, как всегда, с поджатой ногой, внезапно требовал внимания. Мы уже знали, в чем дело. Это было очередное папино “изобретение”. Хитро прищурившись, сопровождая движения полушепотом, папа при помощи вилки, солонки, перечницы и прочих приборов строил хитроумную ловушку, в которую, по его расчетам, должны были попасться, по крайней мере, несколько сот немцев одновременно. Они всегда были чрезвычайно просты и убедительны, и мы, дети, волновались, что папа не спешит заявить об этом куда следует. Не проходило обеда, чтобы папа не придумал чего-нибудь нового. Кажется, все его мысли переключились на тему “изобретательства”».
103
Примечательно, что Розанов эти читательские нелицеприятные отзывы в своих будущих книгах использовал, сопроводив кое-где собственными комментариями. Так, он процитировал не только письмо Флоренского, но также отзыв читательницы, написавшей еще более жестко: «Эх, Василий Васильевич, что же это такое? Ваше “Уединенное” и “Опавшие листья” своего рода откровение, последняя степень интимности, вовсе уж не литература, живые мысли и живые переживания человека, стоящего над толпою. Когда я увидала в магазине новый томик “Опавших листьев”, я так и вцепилась в них, думала снова встретить в них то же. Я думала, что эти опавшие листья так же нежно и тонко благоухают, как и первые. Но в этот короб, Василий Васильевич, кроме листьев нападала высохшая грязь улицы, разный мусор, такой жалкий. Со страниц исчезла интимность, общечеловечность, ударились Вы в политику, таким размахнулись Меньшиковым, что за Вас больно и стыдно. И жирным шрифтом “Правительство”, и еще жирнее “Царь”… К чему это, что за… лакейство. Я нискольку не сочувствую “курсихам”, я дочь генерал-лейтенанта, революцию ненавижу и деятелям ее не сочувствую, но к чему же такое усердие? Кроме того, когда Вы пытаетесь защищать Аракчеева (люблю. – В. Р.) и пинаете ногою трупы революционеров (ненавижу. – В. Р.), у Вас чувствуется на губах пена. Это уже не интимный философ, а публицист из “Русского Знамени”, да еще из крещеных жидов, т. е. наиболее пылающих патриотизмом. Кроме этих страниц (поистине позорных), да писем честного и незначительного друга, да ненужного указателя – в последней Вашей книге что же имеется? Куда девались острые мысли и яркие образы первых двух томов? Кроме двух-трех страниц (например, определение любви) все остальное с трудом помнится. Но грустно не то, что в книге мало интересного матерьяла, – грустно то, что в ней есть матерьял, совершенно неприемлемый для человека литературно чистоплотного. Во время чтения первых книг чувствуешь между собою и автором какую-то интимную связь “через голову других”, веришь этому автору – Розанову “с булочной фамилией”, веришь, что он мудрее всех мудрецов, имеет какое-то право взглянуть свысока на фигуры самых признанных авторитетов. При чтении Второго короба совершенно исчезает это чувство: точно человек, которого считал великаном, слез с ходулей: маленький, завистливый, злобный, неискренний, трусливый человек. И становится стыдно, что еще недавно готова была этому “обыкновенному” развязать ремень у сандалий. Падение заметно даже в посторонних темах. В первых книгах поражает и восхищает любовь к “погибшей мамочке”, это настроение и цельной и огромной грусти, тоски, одиночества. Короб 2-й и это чувство расхолаживает, и становится ясно, что жаль ему не самой мамочки, а жаль себя, жаль той теплоты и ласки, что исчезли вместе с мамочкой, жаль мамочкиной любви, а вовсе не самое мамочку. Да и сам образ “мамочки”, как он потускнел, отяжелел, оматерьялизировался по сравнению с “Уед.” и “Опав. лист.”. И если после официального “провала” Уед. и Оп. Листьев думалось с грустью, что улюлюканье толпы положит предел, не даст Розанову продолжать этот прелестный род художественного творчества, то обещание во Втором коробе, что это будет короб последний, наполняет сердце благодарностью. Ибо если первые книги были, действительно, “замешены на семени”, то 2-й короб замешен на сукровице нечистых язв. Трудно себе представить, что между этими книгами прошло не более года: так постарела, отяжелела, съежилась мысль, так побледнели краски, так притупилось остроумие. Это не Розанов, а кто-то “под Розанова”, это тоже не литература, но уже с другой стороны. Если бы я была очень богата, я скупила бы все издание и сожгла бы и закупила бы все издания вперед, – не потому, чтобы думала, что неталантливый “короб 2-й” был кому-нибудь вреден, а из уважения к “Уед.”.
А. Данилевская
Если хотите ответить (не думаю, чтобы захотели), пишите 28-е почт. отделение, до востребования А. М. Д.».
104
Ср. в «Мимолетном» как штрих к розановским методам воспитания дочерей: «В это именно лето я ее жестоко наказал, и “извини, Варя” – до сих пор стоит в душе моей.
Было так. Сижу наверху и пишу, как теперь помню, “Афродита – Диана” для “Мира Искусства”. И вот – одушевленнейшая страница… Вдруг снизу роковой крик…
“Не даст кончить”, “не даст кончить”, “вот хоть бы это место, мысль, полет сейчас”…
Крик сильнее. Из окна кричу:
– Варя, замолчи.
Еще сильнее. Визжащий, как металлический свисток парохода, в одну ноту – “А-а-а-а”… Без слез и только раздосадованный “на всех”…
Я уже знал, что этот свисток нельзя унять.
Напряг всю волю: в ухо, в голову, в мозг лезет этот ужасный, чудовищный крик Варьки, из-за которого раза три к нам прибегали соседи (немцы) и на скверном немецком языке что-то кричали, что переводила бонна. “Уймите же ребенка”. “Отчего он у вас постоянно кричит”, “верно вы его истязуете”… “Истязуете”…
Это она из нас кровь пила этими криками, смысл которых очень хорошо понимала (“измучу всех”). Поднимала она этот крик, просто когда что-нибудь не по ней или дадут самую легкую шлепку.
И вот, собрав все силы, с “свистком” (крик) в ушах, – я “спокойным, полным достоинства тоном” дописываю о греческих и римских богах и правдоподобном их смысле.
“Одолел Варю. Кончил”. Но в душе встала месть (за трудность так писать). И быстро я побежал по лестнице вниз.
Видно, лицо мое было яростно, потому что и мама бросилась ко мне (оттолкнул), и Варя сейчас замолчала.
– Не бей! (мама).
Могуче дернув Варю за ручонку, я взял ее на руки за живот и понес в комнату.
– Я, папа, не буду.
Спустил, “что следует”, книзу, бросил на кровать лицом вниз и стал своей страшно тяжелой (мясистая, какая-то могучая) рукой бить по известному месту.
Бью, бью…
Еще бью…
Опять бью…
Варя в муке, я в муке. Я был взбешен. Совершенно взбешен. “Кровопивица ты наша”, – стояло у меня в душе. Она была действительно кровопивица. Метод “кричать” с 4-х лет у нее продолжался приблизительно до девяти лет: и никогда никто не мог с нею справиться».
105
Ср. в письме Флоренского Розанову от 3–4 июля 1913 года: «У Ваших в посл. время бываю редко очень, очень, очень занят. Кажется, у них жизнь идет тихая и ровная, без “историй”. Дух чувствуется более здоровый, чем был в СПб. Одно досадно, Шура (и, очевидно, другие) ругают все монахов вифанских такие мол и сякие. А всего-то любят иногда выпить да закусить, а кое-кто приволакивается за горничными. Не всем же быть в лике преподобных! А чтобы расцвести одному цветку, как преп. Серафим, надо унавозить землю тысячами и десятками тысяч таких “вифанских” монахов. И на том им спасибо. Впрочем, они ведь не то, что язва Церкви ученое монашество. Они зла никому не причиняют, а просто погружены в растительную жизнь. Право хорошо, что есть кому чистить храм, петь на клиросе, служить в церкви, содержать гостиницу и… доставлять маленькие развлечения приезжим горничным. А что аскетизма особенно нет кое-кому и лучше: не выдумают именославия! Таня пополнела, хотя бледновата. Вера выглядит чуть чуть менее философичной и держит себя немного проще. Надя, кажется, слегка скучает, – у нее нет подруги подходящей. Зато Вася живет, кажется, больше при речке и озере, чем дома».
106
Ср. в письме Ю. Иваска А. Н. Богословскому, где, размышляя о розановских дочках, поэт пишет: «Центральна бедная Вера. Могла бы быть балериной, подвижницей или игуменьей. Огромное честолюбие и властолюбие, но и честность перед собой. М. б. ее мучило безверие.
Вся семья слагается в какой-то миф. Цветаева (а не Белый, символисты) поняла бы этот миф.
Высокое, но и всегда какой-то духовной волчанкой разъединенное вдохновение отца, сложный “поповский” надрыв от матери, тень ее первого безумного мужа: все это собралось в один больной нервный узел, неизлеченный благодатью».
107
«Монашество, где “первые” и остаются “первыми”, а “последние суть последние”, – есть полное восстановление древнего фарисейства на новозаветной почве. Именно – фарисейства девственности и девства, не розового и юного, естественного в свой возраст каждому существу, а девства как постоянного, неразрушимого состояния, девства желтых старцев и пергаментных старух… Завет и стимул монашества есть “погубление всего человеческого рода”».
108
По собственной воле (лат.).
109
Ср. также в «Мимолетном»: «Вся улыбалась, – такая милая, – она – никогда не была так прелестна, как в этом “больше ее ростом” шерстяном теплом платке и в “рясе” (широкий подол, широкие рукава) на вате, почти до полу. Барышня, где ты! – Я человек… “На новый год” (мои имянины) она настояла, чтобы “наконец отправиться в монастырь”. Отпустили. Я не напомнил, что “завтра имянины папы и брата”. Только что кончила гимназию Стоюниной. Никакой “разбитой любви” сзади. Дружила с одной “Марусей”, – еврейка – лютеранка. Никакого мужского общества. Читала по философии, истории религий и несколько меньше по истории литературы. Что ее толкнуло? Но ее – влекло».
110
Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «Когда я была в шестом классе, мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея… Ночью, разговаривая между собой обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке».
111
Так, летом 1913 года Розанов писал дочери Татьяне из Сахарны в Сергиев Посад: «С Александровыми будьте похолоднее и держитесь подальше. Они очень навязчивы, везде и ко всем лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе вашим они в старые годы причинили много горя, – не уплачивая денег за статьи».
112
Здесь и далее цитаты из мемуаров и дневниковых записей Н. В. Розановой, относящихся к 1917–1919 годам, приводятся по вступительной статье Е. В. Ивановой к публикации последних писем Розанова в журнале «Литературная учеба» за 1990 год.
113
Тут, впрочем, есть одна неясность. В «Розановской энциклопедии» говорится о том, что «в доме был водопровод, теплый туалет, ванная. Вода подавалась ручным насосом из колодца». Однако нигде, ни в письмах Розанова, ни в воспоминаниях дочерей, об этих удобствах ничего не говорится, зато часто речь идет о необходимости носить воду и выносить судно.
114
Ср. в дневнике Меньшикова в 1918 году: «Вчера в “Вешних водах” прочел статью Голлербаха о Розанове и поражен был многими параллельными чертами наших биографий.
Он
Я
Происходит из духовенства
Тоже
Отец его был мелкий чиновник
Тоже
Мать из дворян Шишкиных
Тоже из Шишкиных
Гордилась своим дворянством
Тоже
Была сурова с детьми и заботлива (и волевого характера)
Тоже
Глубокая бедность в детстве
Тоже
Читал “Училище благочестия”
Тоже
Шел в отворенную дверь, не делал выбора
Тоже
Чувство бесконечной слабости
Тоже
Отвращение к школе
Тоже
Отношение к христианству
Тоже
Служба [на] Государственной службе 13 лет
Тоже
Его вытащили (Страхов)
Тоже (Гайдебуров)
Не сразу привился
Тоже
Работа в “Новом времени”
Тоже
И годами мы почти однолетки (он на 3 >1/>2 года старше меня), и даже некоторые мелочи удивительны: Перцов, одно время увлекавшийся мной и затем им. У него пятеро детей и у меня. У него жена за вторым мужем и у меня. У него жена с дочкой от 1-го мужа и у меня. У него друг О. А. Фрибес – и у меня, и т. д. Литературно мы очень не схожи, но есть и поразительные совпадения без заимствования. Я думаю, он обострил свой гений и затемнил его умышленным натаскиванием себя на оригинальность. Сначала хотелось быть особенным, выдвинуться из толпы, быть замеченным. Это некрупный бес, но все же нечистый, и поселившись в человеке, он овладевает душой прочно до психоза. Голлербах говорит, что психиатры считали Розанова полусумасшедшим и что он психопат. Обо мне я не встречал таких мнений – наоборот, почти все меня считают умным, рассудительным человеком, и сам я считаю себя рассудительным тоже до своего рода психоза – до резонерства. Зато меня гораздо реже называют гениальным и великим (хотя называли! И даже писатели сами талантливые, как А. С. Суворин или одесский теософ Е. Е. …). Несмотря на то, не завидую ему. Читаю – т. е. начинаю читать Розанова всегда с интересом, но редко оканчиваю с удовлетворением. У него диссоциация мысли, раскрытие ее с разложением, как у некоторых сильно реагирующих металлов (например, калий). Или, подобно сере и фосфору, мысль его изомерна, имеет не только кристаллическое (как у меня) строение, но и аморфное. Неужели мы с Розановым совершенно будем забыты? Он – нет, хотя бы ради психопатического своеобразия, я – да, ибо просто небездарными публицистами хоть пруд пруди».
115
Опять-таки схожие мысли бывали у Розанова и раньше. Ср. в книге «Около церковных стен»: «Новый Завет относится к Ветхому, как смерть – к зачатию, или похороны – к рождению, или монастырь – к семье». Ср. также в воспоминаниях А. Н. Бенуа: «…вообще он к Христу и к христианству питал какое-то “недоверие”, почти что неприязнь. Все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на “моральные преимущества” христианства или на реальную благодать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что он считал за “эквивалент” христианских принципов. Я, однако, не вполне уверен в том, что Розанов так уж досконально изучил Библию, и в нескольких случаях эти его ссылки или его превозношения были импровизациями, исполненными, впрочем, всегда яркостью и заразительной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представляли собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то своя Библия, свой Завет, и из этой своей личной сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные доводы, свои чудесные прогнозы, а также свои, иногда довольно лукавые и язвительные возражения. Спорить с ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним и не спорил и всегда предпочитал “его слушать”; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиночка Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев».
116
Публикатор переписки Розанова и Измайлова А. С. Александров приводит в комментариях высказывание Розанова о Проппере в письме Измайлову 1909 года: «Вы знаете, что я евреев почти люблю и никак от русских их не отделяю: но единичный из евреев, “уже не еврей”, интеллигент-Пропер, богач-Пропер, либерал-Пропер, чуть ли не приват-доцент Пропер – мне совершенно и единственное в литературе лицо – не переносим».
117
Ср. продолжение этого письма: «Я переехал в Сергиев Посад, Московской губернии, Красюковка Полевая улица, дом священника А. А. Беляева.
Выпуск 6–7 задержан на месяц или на два в виду ареста Куприна в Москве, и в виду моего “контр-революционерства” тоже в 6–7 выпуске.
Все это письмо можете опубликовать, Александр Алексеевич, как равно и перепечатать, всего бы лучше как бывало делалось с Тэффи и вообще “видными людьми”, сразу, т. е. одновременно в газетах Вашей и у Пропера. Яйца теперь 9 рублей десяток, мясо есть свежее, прекрасное по 8 р. фунт.
Господи, если бы вступился за меня могучий Пропер: ведь он как и Сытин – гениальный человек. Правда, ведь он меня знавал когда-то (на обороте листа). Когда-то мы ехали с ним, в его чудной коляске пара в дышлах, через мост на Неве с дачи загородной И. И. Ясинского: и так было приятно именно “могуче ехать”, т. е. лошади не устали, не извозчичья кляча. Родной мой, поезжайте к Проперу. Поезжайте, поезжайте сейчас. Выпросите у него, у жены его, у дочери (очень милая, я раз видел в театре!!) 2 фунта кофею, 2 фунта цикорию, 4 фунта сахара, 1 фунт какао (безумно хочется какао). Господи: да ведь я могу и мяса попробовать, и яичек купить теперь: что ему стоит, целому Проперу выслать “Розанову целую тысячу рублей аванса в счет будущего сотрудничества в Биржевых Ведомостях”, для коего никаких теперь препятствий нет в виду целого апокалипсического переворота, прежде всего совершившегося-то в моей душе. Может быть именно – “судьба”. Саша, поезжай! Клодина, уговори своего чернокудрого Александра.
Милый Саша: пусть в мудром уме своем Пропер сам “обдумает меня”, я ему совершенно, вполне доверяю.
И вот что еще, Саша. У меня есть никогда не виданный мой друг, футурист – еврей – и страшный “русский патриот” (да! да!) Виктор Ховин. Съезди к нему: передай поклон – горячий, горячий от меня. Он имеет “лавочку книжную”, продал 60 экз. “Апокалипсиса” и просил выслать еще. Я конечно буду высылать и все ждал выхода 6 и 7 №№. И буду ему высылать не “с уступкою ради книгопродавцев” 35 %, а ему милому и доброму Ховину то есть с уступкою 50 %. Да еще если бы Вы заехали к Руманову: дом 35, Морская: это тоже мой верный друг, прекрасный, никогда мне не изменявший. Господи: как я теперь ценю и иначе совсем оцениваю евреев, сколько в них интимного, теплого, лучшего чем эти парикмахеры-греки и эти “грузовики-автомобили” римляне.
Ну, Саша. Услужи. Спаси Розанова. Спаси больную его жену и малых детей.
Это письмо, я верю, историческое. Его сказало небо. С него начнется Реформация. Ты, Саша – Ульрих фон Гутен, я – Лютер. Поезжай, поезжай, поезжай к Проперу. Чувствую – спасен Розанов».
118
Ср. в воспоминаниях С. Н. Дурылина: «Вспоминается лето 1918 г. Писания Вас. Вас. о Солнце и о Христе. И Авва ходит к Флоренскому и убеждает – разорвать с В. В., чтобы он понял, что нельзя так писать… И в голову не пришло, что надо было бросить 99 девиц, юношей и дам, “ищущих христианского просвещения”, и пойти к этой одной “овце” – охолодавшей на скудном “религиозно-философском” солнце и рвущейся греться на солнце простом – на “солнышке”. В голову не пришло, что не к Фл. надо было спешить на уговоры – отпасть поскорей от заблудившейся овцы, а бежать к этой самой “овце” – и тормошить ее вопросами-ласками: “что с тобой? Что ты? Отчего ты бежишь? Куда?” Это сделал из всех “ищущих” и “нашедших” один Мокринский, стоявший уже двумя ногами на границе безумия, – а всем остальным – повторяю в голову – не пришло – и все тут».
119
Справедливости ради эта сцена писалась не только для того, чтобы подчеркнуть антицерковные настроения Розанова тех лет. Как вспоминает Дурылин дальше, Розанов увидел на столе в келье фотографию оптинского старца Анатолия (Потапова): «Он остановился перед портретом в убогой рамочке. Портрет словно тянул его к себе. Он сделал шаг, взял портрет со стола (мы молчали), поднес к глазам, опять отдалил, не выпуская из руки, опять приблизил:
– Какое лицо!
Рука поставила на стол, глаза держали перед собою. И вдруг обернулся к нам и требовательно, смешно до капризности, потребовал:
– Кто это? Кто это? Кто это?
Помнится, Сережа (Ф[удель]) или Коля, кто-то из мальчиков, бросился отвечать и даже начал что-то, что, доконченное, было бы по смыслу так: “Кто? – А один из тех дуроломов, которые…” Но Мокринский прервал, не дав дойти до “дуролома”, и ответил с той ласковою и строгою спокойностью, которая была свойственна ему в последние годы его жизни:
– Оптинский старец иеромонах Анатолий.
(Помню, он так и сказал: “иеромонах”, а не “отец Анатолий”, как все мы, и он в том числе, называли меж собою, – и было что-то торжественное, облегченное, благодарное в его ответе.)
В. В. выслушал, повернув лицо к Мокринскому, и даже пождал несколько, не скажет ли он еще что. Может быть, кто-нибудь из нас и сказал бы еще что-нибудь, но В. В. круто и быстро отвернулся к столу, опять взял в руки портрет и опять – в глубокой задумчивости – повторил:
– Какое лицо!
Словно у него не было сил оторваться от простого, русского лица одного из тех “дуроломов”, которые под каменными сводами храмов служили Богоявленскую всенощную.
В этот вечер о многом говорилось с В. В. Горячо и умно, с юношеской стремительностью, нападал на него Сережа [Фудель], спокойно, с любовью, противостоял В. В-чу Мокринский, говорила что-то Таня, говорил я, – но, конечно, по-настоящему, решающе говорил один: молчаливое старческое лицо на провинциальном портрете.
И смысл сказанного им, – сразу же сказанного В. В-чу портретом в домодельной рамочке, – был и для него, и для нас один, – и он признал это тогда: – оправданы эти душные своды и в звездную ночь потеющие в ризах дуроломы, если из этих сводов и риз, время от времени, просинивают на русской земле, нищей и злой, вшивой и махорочной, лица такой духовной красоты и неотвержимой мудрости, как то, которое глянуло в Крещенский сочельник на “врага Христа, более опасного, чем Ницше” (по мнению Мережковского), с плохой захолустной фотографической карточки».
120
Цит. по статье Натальи Казаковой «Свидетель Апокалипсиса» (журнал «Знамя». 2020. № 2).
121
«Но вот еще заметка: по самой судьбе своей я обошел Христа и Евангелие. Гимназистом – нигилист из нигилистов, “чертенок”, “бесенок”… “в Евангелие я в сущности и не заглянул”, и “Христос прошел совсем мимо меня” или вернее я “мимо Его” и – не заметив. Рост моей религии был совершенно другой и из другого источника. Если же принять во внимание “бессеменность зачатия Христа”, то совершенно явно, что этот “источник религии” был не только внехристианский, но и противохристианский. Поднималось “Все язычество”, ведомое Египтом, Финикией, Израилем. И – поднималось явно – на Христа, против Христа. Теперь слушайте же тайну и глубину, и “почему я победил (воистину победил) Христа”. Я Вам сказал уже, что из х… вся нежность. “И в небе каждую пылинку; и в поле каждую звезду”. Но – какая? – Родная, подподольная, штанная. В сущности – нагая, райская. “Бог – с нами. Со – всеми”. Пою и пою. Музыка и дифирамбы. Пиндар и Гомер. Мегара и Афины. А еще лучше и вечное – просто Жиды, Лавочка их Святая (о, да! да! – я о лавочках буду много писать) и Иерусалим. Что же такое, что “Христос разрушил Иерусалим”? Он разрушил семя мира, будучи сам бессеменен, безродственен и дав человечеству гораздо худшую любовь, гораздо меньшую любовь, поистине “епархиальную любовь”, поистине “Василия Блаженного любовь”, которая ведь не такая, как у нас с Вами к женам. Вы понимаете? Он отнял у человечества “жемчужины”, заменив их “стразами” (= жемчуг из вымочек рыбьей чешуи). Не просто важно поэтому, но ноуменально важно Ваше замечание (обо мне): “ко мне вышел мелкими шажками старичок крайне благодушного и ласкового вида”. Это – так и есть, в этом – суть. Никогда, никогда, никогда я бы не восстал на Христа, не “отложился” от него (а я и “отложился” и “восстал”), если бы при совершенной разнице и противоположности, бессеменности и крайне-семенности не считал себя богаче, блаже (благой), добрее Его».
122
СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК
В жилище мрачное теней
На суд предстали пред судей
В один и тот же час: Грабитель
(Он по большим дорогам разбивал
И в петлю, наконец, попал);
Другой был славою покрытый Сочинитель:
Он тонкий разливал в своих твореньях яд,
Вселял безверие, укоренял разврат,
Был, как Сирена, сладкогласен,
И, как Сирена, был опасен.
В аду обряд судебный скор;
Нет проволочек бесполезных:
В минуту сделан приговор.
На страшных двух цепях железных
Повешены больших чугунных два котла:
В них виноватых рассадили,
Дров под Разбойника большой костер взвалили;
Сама Мегера их зажгла
И развела такой ужасный пламень,
Что трескаться стал в сводах адских камень.
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг;
Под ним сперва чуть тлелся огонек;
Но там, чем далее, тем боле разгорался.
Вот веки протекли, огонь не унимался.
Уж под Разбойником давно костер погас:
Под Сочинителем он злей с часу́ на час.
Не видя облегченья,
Писатель, наконец, кричит среди мученья,
Что справедливости в богах нимало нет;
Что славой он наполнил свет
И ежели писал немножко вольно,
То слишком уж за то наказан больно;
Что он не думал быть Разбойника грешней.
Тут перед ним, во всей красе своей,
С шипящими между волос змеями,
С кровавыми в руках бичами,
Из адских трех сестер явилася одна.
«Несчастный!» говорит она:
«Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с Разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.
По лютости своей и злости,
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты… уже твои давно истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаяся, век-от-веку лютеет.
Смотри (тут свет ему узреть она дала),
Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей, —
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? – тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальства, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? – ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти и порок?
И вон опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови – ты виной.
И смел ты на богов хулой вооружиться?
А сколько впредь еще родится
От книг твоих на свете зол!
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!»
Сказала гневная Мегера —
И крышкою захлопнула котел.
123
Ср. очень розановскую по духу оценку личности Ильина в воспоминаниях Г. А. Лемана: «Помню, Н. А. Бердяев сказал, что творчество Ильина “анэротично”, что было весьма справедливо. Князь А. Д. Оболенский заметил, что мысль Ильина не длиннее воробьиного носа. Но совершенно замечательно сказал Федор Степун, человек очень умный; в настоящее время профессор Мюнхенского университета. Он определил выступление Ильина, как “религиозное помешательство неверующей души”. Сказать лучше было невозможно. При всей моей даже любви к Ильину, я могу сказать со спокойной совестью, что весь огромный пафос, какой он вкладывал в свою квазирелигиозную проповедь, был мыльным пузырем, из которого ничего не могло получиться… В заключение хочется отметить, что та “сухость”, тот анэротизм, который Бердяев отмечал в Ильине, был свойственен и жене его – Наталье Николаевне. Не в укор им будь сказано, их супружеский союз несколько походил на сожительство двух старых дев. Оба они жили умственными интересами, весьма их взаимно уважая друг в друге. Помню, с каким благоговением Иван Александрович рассказывал мне о занятиях его жены романтиками, увлечении Новалисом и т. п. Но было совершенно противоестественно представить их папой и мамой, и у них, конечно, не было детей. Не в плане глубинных пластов души, не в нераздельно-целостном слиянии протекала их супружеская жизнь. Как я только что говорил о том, что Иван Александрович стоял вне церковной ограды, так я мог бы сказать, что он стоял и вне ограды брака. Такова судьба людей, лишенных священного огня эроса».
124
Вот что он писал об отношении Флоренского к Розанову: «В Розанове, в него тоже влюбленном, он вдруг видит неприступное упорство, да еще в бесспорном вроде бы вопросе. Ну признай ты полную правоту Церкви, тем более сам прибежал от голода под стены ее главного монастыря; признай свои заблуждения в такое время, когда всем надо сплотиться, признай свою нуждаемость, несамостоятельность, признай над собой всю духовную иерархию, позовешь ведь все равно священника перед смертью. Но никак не удается выправить, наставить Розанова уму-разуму; он вывертывается и не то что не признает Церковь и упирается, а неожиданно, наоборот, полюбит, привяжется как никогда, но так, что опять ясно: ведет он речи все равно свои, не те, до скандала не те, хоть плачь, хоть брось, а совсем было подобрали к нему ключик… Еще вспоминаю тут, что мне говорили о Розанове знающие люди: поймите, как он ни задевал Церковь, она его любила, потому что видела, что вся благоразумная рассудительность религиозной философии Булгакова, Франка, других, такая умная, веры мало прибавила, а несколько розановских слов о чадолюбивом диаконе, о Боге “милом из милого, центре мирового умиления” имеют такую силу и так располагают к вере. Флоренский это чувствовал и тревожился… Чем Флоренский обеспокоен – что прямо перед его носом уходит, ускользает куда-то Розанов, набив себе полные карманы общественного расположения, даже любви, и всё ведь чуть не обманом, всё как-то с лёту, и надо бы остановить его с поличным, чтобы он перестал морочить людей, но не выходит. Так полезны ли – “полезнее всех проповедей, вместе взятых” – речи Розанова или только для дураков, “содержит правильное постижение мировой истории” его слово или ложно? Флоренский колеблется в 1918 году, не зная окончательно, в какую сторону решить Розанова».
125
«Три дочери Розанова посещали Высшие женские курсы, директрисой которых была моя теща – госпожа Стоюнина. Наша квартира находилась недалеко от курсов. Когда Розанов приходил по делам на курсы, он всегда заходил ко мне. Стоило мне сказать “войдите” в ответ на его стук в дверь, как он быстро входил в кабинет, подбегал к столу, на котором лежали раскрытые книги, и пытался подсмотреть, что именно я читаю. Быть может, он пытался настигнуть каждого внезапно таким образом, чтобы изучить действительные интересы людей».
126
Что касается личности Лутохина, то это был, судя по всему, не экономист Далмат Александрович Лутохин, на чьи воспоминания о Розанове я не раз в этой книге ссылался, но его однофамилец Михаил Иванович Лутохин, о котором практически ничего не известно.
127
Сохранилось письмо Розанова Котляревскому: «Благодаря участию Михаила Осиповича Гершензона, указавшего Максиму Горькому на мое безвыходное положение, Максим Горький перевел мне по почте две тысячи рублей. Итак, мой добрый Нестор Александрович, все написанное мною Вам о пособии детям моим теплых вещей и непосильной мне самому работы отпадает. Теперь я сам справлюсь со своей нуждою. Преданный Вам В. Розанов». Ср. также в последнем письме Розанова Гершензону: «Сим уведомляю с глубокою благодарностью, с неизъяснимой преданностью Максима Горького, он же Алексей Пешков, что я получил от него пересланные мне по почте деньги в сумме двух тысяч рублей через Мих. Осиповича Гершензона. Сергиев Посад. Моск. Об. Красюковка, Полевая 7, Беляев».
128
Вот выдержки из заключения врача Аркадия Владимировича Танина, записанные под диктовку священником Павлом Флоренским 9 марта 1919 года: «Движения правой руки и ступни левой ноги были затруднены. Мне казалось, что была некоторая затрудненность речи, выражавшаяся в шепелявости. Общее состояние <…> сердца было удовлетворительно, сознание было вполне ясное. Вообще В. В. Розанов до последней минуты сохранил полную ясность сознания… Когда я был у него во второй раз <…> мною было [найдено] расстройство зрения в форме <…> выражавшееся в том, что больной видел только правую сторону предметов. Поэтому он <…> видел только правую половину слов на правой стороне страницы. Кроме того, у него было расстройство мочеиспускания в форме частых неудержимых позывов на мочу. Болезнь была мною диагностирована как тромбоз артерии в правой половине мозга на почве артериосклероза. <…> Мною был назначен <…> кроме того, массаж левой руки. Вначале, под [воздействием] этого лечения, замечены некоторые улучшения: движения руки стали свободнее и расстройство зрения стало как будто [меньше]. Но потом вновь наступило ухудшение. Кроме того, под влиянием плохого питания общее истощение организма и <…> слабость все более увеличивались. <…> Деятельность сердца также постепенно слабела. И когда я последний раз был приглашен к больному, накануне его смерти, то пульс был уже настолько слаб, что не оставалось никакого сомнения в близкой кончине больного, о чем я и сообщил его родным. Сознание все время оставалось ясным» (Архив священника Павла Флоренского). Цит. по журналу «Новый мир» (1998. № 10).
129
Господь дал Лидочке, Лидии Доментьевне Хохловой, долгую и полнокровную жизнь. Она умерла в 1991 году.
130
«Прочитали молитвы – подразумевается». – Примечание Т. В. Розановой.
131
И ему же, С. Н. Дурылину, принадлежит самое подробное описание последних часов жизни Розанова, его смерти и похорон. Эти страницы его «Троицких записок» за 1919 год были впервые опубликованы в 2016 году в журнале «Наше наследие» доктором философских наук, профессором РГГУ, главным хранителем фондов Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина Анной Резниченко и кандидатом философских наук, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сотрудником музея Дурылина Татьяной Резвых. Они не вошли ни в одну из биографических книг о Розанове и слишком велики для цитирования в основном тексте, а обрывать их жаль, и потому я позволю себе привести их в данном примечании максимально полно как последнее свидетельство в спорах о самом спорном русском философе минувшего века.
26 января. Суббота
«23-го, в среду, около 12 ч. дня по старому времени скончался Василий Васильевич.
Я был у обедни и пришел около 11 ч. к Софье Владимировне. Мальчики (Юша и Миша) встретили меня: “В. В-чу очень плохо. Мама к нему собирается”. Софья Владимировна сказала мне: “Час тому назад заходил о. Павел. Его в 5 ч. утра вызвали к В. В. По дороге он встретил о. Павла от Рождества, тот шел со Св. Дарами от В. В. Он причастил его по его собственному желанию. Наш о. Павел прочел отходную. В. В-ч всех узнает, но уже не говорит”. Мы пошли с Софьей Владимировной, по нашим. Я говорил о борьбе за В. В-ча. Он тих, мирен, идет к христианской кончине. Была борьба за Леонтьева: мы знаем, чем кончилась. Неясна борьба за Лермонтова, хотя я верю, что и тут победа Божия. Теперь Василий Васильевич и борьба за него. Оттуда Надя в слезах.
В. В. лежал на постели, укрытый грудой теплых вещей, – он все жаловался на холод, – поверх горы теплых вещей байковое, зеленое одеяло с разводами. Он два дня ничего почти не ел. В ногах стояла безмолвная Варвара Дмитриевна, не слезы, а слезки текли по ее лицу. На откинутом верху одеяла лежала горстка пепла от папироски. Голова В. В-ча высилась на белой подушке. Глаза его открыты; но уже явно не видят. В них нет ни остроты зрения, ни розановского “глазка”; они смотрят широко, по-новому, точно видят что-то спокойное, широкое, новое, но вместе и ожиданное. Он за десять дней, что я его не видел, очень исхудал. Нос сделался большим, острым, а лицо маленьким, – какой-то “старичок”; маленький “старичок”. – Личико с “кулачок”. Мокрота мешала ему дышать; видно было, как дыхание – значит: жизнь! еще жизнь! – идет по горлу, – и хлюпает что-то в горле, но тихо, не шумно, – как громкое дыхание, а иногда хлюпанье, бульканье на секунду, на минуту прекращается, – и слышно, как он дышит. Тело его неподвижно. Оно покойно. Кажется, жизнь вся взбирается ко рту, течет по горлу, к устам, – и когда уйдет, то тело никак не будет сопротивляться. И это поражало и радовало: привычно было думать, что он будет метаться по постели, отмахиваться, кричать или частым-частым говорком (как в августе мне с Софьей Владимировной) приговаривать “Жить! жить! жить!”; или мешать будет слова со слезками, как 1-го января: “уходит, уходит, уходит!”, – и ничего, ничего этого не было. Он умирал тихо, покойно, в великой тишине и простоте. Ничего не исполнилось из того, что думалось о его смерти: дети (Вася, Варя, Надя) осенью втроем говорили, как будет умирать папа, и плакали, боясь, что он умрет страшно; причаститься не откажется, но так, прохудом, мимоидя как-то, и будет бороться со смертью, брыкаться, кричать – от рака, от страшной боли: мать его умирала от рака; сам он 1-го мне говорил: “я умру через 10 минут после того, как вы уйдете”. – И плакал. А теперь мы пришли ровно-ровно за 10 минут до его смерти, и умирал он, как таинство совершал. На лице не было никакой муки, ни тени страдания, ни черты безпокойства и страха. Он тихо, все тише и тише додыхивал свою жизнь. Агония – борьба, а он ни с кем не боролся. Не шевелилось над его телом ни одной складочкой одеяло; пепелок от последней, выкуренной им, папироски не рассыпался на откинутом у его груди конце одеяла. И казалось, он все слышит. И я думаю: он и слышал. “У папы необыкновенный слух”, – сказала Надя. Таня полезла над ним, стоя на стуле, к образу и зажгла лампадку перед образом св. Великомученицы Варвары. На столе горела восковая свечечка. Дочери стояли на коленях и горячо молились, тихо плача. Тихая стояла Варвара Дмитриевна в ногах и смотрела на него – со своими слезками, еле-еле видными на лице. Я стал на колени и заплакал. Софья Владимировна взяла молитвенник и стала читать “Канон Богородице на отход души”. Вокруг него была молитва и тишина. Никто и ничто не нарушило его тихого отшествия.
Легкое клохтанье в горле прекратилось. Ему легче стало дышать, и стало еще тише. Дыханье стало глубже и реже. Он тихо доделывал трудную работу, доживал: доносил до конца дыханье жизни. Еще дыхание; еще дыханье. И ни мускул, ни складочка не двигается на лице, но это не оттого, что оно окаменело и каменно, нет – это оттого что оно спокойно, совершенно, до глубины спокойно. Оставшийся ручеек жизни течет еле-еле, в его теле, тихо-тихо, слабея-слабея, но незамутненно, ничем не тревожим, ничем не пресекаем, – и вот сейчас и не увидим, как впадет в великий неведомый тишайший океан вечной жизни.
Точно воздух вокруг него чудесен и несказанно ароматен – и он глотает его глубокими, глубокими глотками, и так он ароматен, так драгоценен, так сладостен, что и нельзя часто глотать: глотки все реже, все реже, – точно насыщен он, уже почти насыщен. А лицо еще спокойнее, еще мирнее. И вот он с нами – и не наш: нет того В. В-ча: как мог такой, – такой как теперь, как тот, чту с нами – плакать, говорить, просить, писать, курить папироску, – …Все то – небыль, и только то, что теперь, и быль и истина. Вот тот В. В., который был, а тот, другой – тот не был.
Таинство свершалось и, когда оно свершилось, – никто не заметил. Слышались тихие, тихие молитвенные воззвания к Богородице. Горячо, слезно – и тихо, без тени горечи и взывающей скорби, молились дочери. Еще тише стала тихая Варвара Дмитриевна. Она потом сказала мне: “Вы видели, он улыбнулся три раза”. Чуялось, что таинство уже свершено. Но все были в молитве. Была только тишина и молитва. Вдруг Софья Владимировна остановилась читать, и взглянула на него, и сказала, чуть слышно, – “Кончился”.
А он смотрел на нас спокойными широкими новыми очами, тихий на веки, надышавшийся до сыта тем чудным воздухом, который только что вбирал в себя редкими и глубокими глотками, – и больше не нужно было дыханья. Он не дышал. Надя прильнула к одеялу – и плакала. Таня сказала мне: Закройте ему глаза. Я подошел, поклонился ему до земли, и закрыл ему глаза. Теперь уже он весь был не наш.
Софья Владимировна, как пришла еще, принесла с собою пелену с Главы Пр. Сергия, и он умирал с головой накрытой ею, сложенной вдвое. Я положил ему на глаза две греческие монеты из его коллекции и накрыл голову пеленой сплошь. – “Это не кончина была, это – таинство”, – сказала мне Софья Владимировна потом.
Варвара Дмитриевна, плача тихо и счастливо, сказала: “Он умер как христианин”. Видно было, сколько мук, надежд и опасений было у нее вокруг его смерти, – и всех их он отстранил своей кончиной. “Четыре раза приобщился. Соборовался маслом. Умер под покровом Преподобного Сергия! Я видела, как умирал Страхов. Он ходил все в лютеранскую церковь. Нельзя было причастить, не исповедовался. Мучился долго. Я много смертей видела. Никто так не умирал”. И она была спокойна, все время похорон, пряма, мирна, почти радостна. Надя и Таня плакали тихо. Я сказал им: “Этой кончиной – все, все кончено. Ничего о нем нельзя сказать злого никому. Все покрыла эта кончина. Все ей зачеркнуто”. “Не надо ничем ее возмутить! – Я знаю, я знаю”, – твердила Таня, плача. “Это – такое, такое счастье. Умер под покровом преподобного…” – “Он со всеми простился, он всем все простил, – он диктовал мне”, – говорила Надя. А он лежал неподвижный, укрытый пеленой с мощей того, в чей город он переселился за год до смерти.
Софья Владимировна пошла искать женщину омыть тело. А я пошел в кабинет готовить стол. Мы отодвигали шкафы, снимали иконы. Нашли пакет с надписью “Вскрыть после моей смерти”, смотрели по неволе его книги, книги его друзей и врагов. Вот – полка с “Египтом”. Вот книги о евреях. Вот грубые пародии и памфлеты на него. И так жалко и бедно казалось мне слово человеческое, даже и его слово, пред тем бессловным, что слышали мы только что в той комнате.
[Варвара Дмитриевна сказала – и плачет. – “В сочинениях своих В. В. писал, что умрет с папироской. После отходной попросил у меня папироску, но курить уж не стал”. Из богадельни наняли двух читалок-старушек. Читали они благоговейно, тихо, с коленопреклонениями, при началах кафизм, с хорошей старорусской молитвой за него. Омыла его Даша, прачка, та самая, которая переносила его больного из Таниной комнаты в комнату Варвары Дмитриевны. Он ей сказал тогда: “Дайте я вас перекрещу” – и перекрестил. Она плачет теперь, вспоминая этот его крест.]
Варвара Дмитриевна сидела и смотрела, как мы возимся с книгами: “и вы все это – взять хотите? – Все это дочерям. Мне ничего не нужно”. Перед смертью он говорил дочерям: “Христос Воскресе!”, за два дня до кончины он велел записать – всем нужно веровать во Христа и Св. Троицу. И тут я понял и обращенные ко мне 3-го его двукратные “Христос Воскресе”. А Софья Владимировна дома сказала мне: “У меня на душе нынче Пасха”. Вот шкафик с письмами к нему.
Таня: “Папа прежде больше всего дорожил книгами, а последние годы – письмами”. Я открыл ящик. Письма на “Да”. Обложки в лист белой бумаги. На верху надпись – имя, фамилия, отчество корреспондента. Внизу – характеристика в одно-два слова меткости необычайной. Вложены фотографии. Я открыл свою обложку. Первое письмо попавшееся было мое последнее письмо к нему, столь его обрадовавшее, пасхальное, общее с поздравлением его с Воскресением Христовым и благодарностью за его любовь к людям, вера, что Христос зачтет ему его жалость к детям, к Рождающей женщине. Опять Пасха.
Когда стол был приготовлен, я ушел обедать. Поискал славянскую Библию, хотел почитать Псалтырь, но были только русские (несколько), по-русски не хотелось читать».
27 января, воскресенье
«Денег не было ни у детей, ни у меня, ни у Софьи Владимировны. В семье было 80 р. всего. Таня в день похорон вспоминала, как В. В-ч говорил: “Хочу быть нищим. Это и хорошо”. [И мне тоже говорил: “Я нищий. Бог богат” – и плакал.] Но никого не смущало, что денег нет. Все откуда-то взялось. Деньги нашлись у Сергея Павловича. Он с благоговением выслушал о кончине В. В. и сказал: “Бог терпит и приемлет и борьбу против него, если она такая, как была у В. В. – и дал ему кончину христианскую”. Софья Владимировна присмотрела гроб. Я пошел за ним. “На ваш рост?” – спросил гробовщик. “Да”. Я почему-то – да и Софья Владимировна – решили, что В. В. был с меня. Гроб досчатый, крашен в коричневый, с белым глазетовым тесемочным крестом на крышке. Я повез его на извозчике. Мы с Надей внесли вместе. “А где хоронить?” – спросил я дочерей. Я про себя решил, что нужно у Черниговской, возле Леонтьева. Но молчал. Эту же мысль высказала Софья Владимировна. И вдруг <так!> девочки тоже боялись сказать, что не хотят на Кукуевском, боялись, что мы все “большие” скажем, что в другом месте – в Лавре – неисполнимо. Думали оне и о Черниговской. Я им сказал свое мнение. Оне с радостью согласились.
(Когда я вернулся к вечеру) В. В. лежал уже на столе в сюртуке, с образком Преп. Сергия. Ни шума горя, ни смуты горя не было. – Вокруг него все тихло и мирствовало. Варвара Дмитриевна сидела на стуле и не отрываясь смотрела на него. А он был под простыней. И стал больше ростом. <…> Дочери молились у умершего. Наконец, в четверть восьмого, по старому вместо 6, пришел о. Павел с Анной Михайловной. Их задержали дети. [О. Павел подошел к В. В., поклонился и крестясь его благословил до начала панихиды.]
Началась панихида. Я дал огарочки, купленные в восковой лавке: целых свечей нет. Юрий Александрович стоял у печки, низко опустив голову. Дочери справа, на коленях. Варвара Дмитриевна стояла прямая и спокойная; иногда садилась на стул. После панихиды предполагали класть в гроб, но, смерив В. В-ча, увидали, что гроб мал: В. В. – был выше меня. [На улице шли все вместе. Юрий Александрович сказал: “Как все у них просветлело! И сам В. В-ч также” <…> – “Но нет теплоты”, – сказал о. Павел. “У кого… у семьи?” – в голосе Юрия Александровича было удивление; явно, что “нет теплоты” он не мог относить к В. В-чу – умиренному и просветленному… – “Нет, – ответил о. Павел, – и у самого В. В-ча. Бывают покойники, которые все чисты и от них как будто свет идет; бывают неприятные, страшные, а В. В. – чист, но он весь как – он помолчал секунду – минерал”. Он говорил сзади меня. Мне стали вдруг до последней степени неприятны его слова и то, что он может и здесь, и об этом рассуждать; мне стал неприятен о. Павел. “Минерал”. Там лежит “минерал”. Он сейчас пел и кадил “минералу”.]
…Утром я пошел к гробовщику. Он обещал прислать людей проверить нашу мерку. Пошел к Розановым. Взял на салазках кое-какие рукописи и книги. Там мирно и тихо читали псалтырь. У В. В. приоткрылись глаза. Я положил на них опять монеты.
До обеда мы все поехали в Гефсиманский скит. О. Израиль отнесся очень сочувственно к нашей просьбе уступить место В. В-чу. “Слышал о нем и плохое, и хорошее”. Я рассказал ему, как готовился В. В. к смерти, как просил прощения у архиеп. Никона, как он умирал. Сергей Павлович рассказал, что он был ученик Леонтьева и всю жизнь влекся к церкви, желал быть с ней, был если не всегда в стенах, то около церковных стен. “А у меня и место есть, – сказал о. Израиль. – Его выбрал для себя Михаил Александрович, через дорожку от Леонтьева. Он похорониться хочет у еп. Феодора. Вот ваш покойник здесь и ляжет”. Мы ничего не скрыли от о. Израиля, что В. В-ч и церковь хулил и Христа Господа. И было внимание, ласка и приют ему от служителей этой Церкви. Сергей Павлович говорил, что может быть Михаилу Александровичу еще оставят место. Ему спасибо, ибо все вышло само собой. “Ну, я выберу сам место”, сказал о. Израиль.
Мы пошли приложиться к Черниговской Божией Матери. Потом – к о. Порфирию. Он заговорил со мной о Мише, ласково называя его Деточкой. “Что́ бы батюшке с тобою послать?” Принялся искать. “Сам в лавке выберу”. Спросили мы, как отвечать на сложные религиозные вопросы Миши. “Смирять надо, чтобы многого не спрашивал много. Иногда и не так ли сделать, как Варсануфий Великий? [Побил по щекам посланного нарочно к нему старцем послушника.] Иногда и сказать: сам не знаю”.
Я попросил благословения писать Леонтьева. “Я его помню очень хорошо. Он очень часто бывал у батюшки о. Варнавы. Он был в тайном постриге. Мы знали это. Можно. Пиши. Почитаем”. Рассказали мы о. Порфирию, кого хороним. Он смирно слушал о нем. “Колебался в стороны, а не ушел от Господа”. И опять о Мише. Благословил меня говеть к Сретению. Оделся. Пошел с нами, в лавку, выбрал Мише духовную книгу и фотографию собора.
Пообедав, я пошел к Розановым. Дочери были в волнении и слезах. Таня плакала и рыдала: “Так было хорошо вчера, а сегодня, сегодня… Я считала Павла Александровича за отца родного, а он…” Оказалось, что вчера о. Павел сказал, что нужно продать библиотеку. “А папа говорил: книги – детям” (Надя). “Я так берегла ее. Мы всякую книжку знаем. Я с таким трудом перевозила ее сюда” (Таня). – “Я пошла к Павлу Александровичу. Папа послал. Было плохо. А он не пошел и сказал: ‘Зачем вы пришли за мной?’” (Надя). – Я утешал, как мог. “И мы хотим, и папа так хотел, – чтобы тот о. Павел служил”. – “Он его исповедал”.
Пришла Варвара Дмитриевна: “Таня, не плачь: ты его покой смущаешь…” Строго и спокойно сказала. Таня пошла к тому о. Павлу. [Он болен и не мог служить. Он, будучи диаконом, напутствовал с иер. Трифоном умиравшего Л<еонтье>ва.] А Надя – к Голубцовым. [Они рады приему, о. Израилю и тому, что папа будет у Черниговской. Варвара Дмитриевна дала мне прочесть сочинение Нади “Тающее”: “скажите, – не осудите меня, – есть ли у ней талант”.] Надя вернулась. Пришел гробовщик. Он привез на салазках новый гроб, такой же, туфли, саван. Подушки не было. Он взял наволочку, сходил к себе и набил ее сеном. Внесли гроб. Я покропил его крестообразно трижды Св<ятой> Крещенской водой, вчера принесенной Голубцовой. Мы с гробовщиком стали класть в гроб – он простой славный мужик – поднял В. В. в головах, я приподнял за ноги. Он был легкий, и ноги у икор ощущались как у ребенка. Мы положили его в гроб. Отлежит в сюртуке. Укрыли кисейным саваном. “Убрали в последний раз!” – сказала В<арвара> Д<митриев>на. Я пошел к С<офье> В<ладимиров>не. Поужинали и пошли на парастас. О. Павел отслужил утреню заупокойную. Помогала петь сестра, делавшая массаж В. В. Были на парастасе С<офья> В<ладимировна>, Ю<рий> А<лександрович>, Миша, Александровы, Надежда Петровна. Стояли с огарочками.
Наутро рассвет был яркий, нежный, многоцветный. Началось морозцем, – потом потеплело, и погода была чудесная – русская, бодрая, солнечная, с “солнцем, идущим на лето”. Я беспокоился: как мы донесем В. В. до церкви? Мужчины нет. Ю<рий> А<лександрович> и С<ергей> П<авлович> не могут быть. Я зашел к носильщикам. Дом заперт. Вернулся к С<офье> В<ладимировне>. Хотел послать Мишу поторопить приехать розвальни. Нельзя раньше 11. Пошли к Роз<ановым>. У церкви Михаила Архангела стоят розвальни. За В. В-чем на них доехали с Мишей и Юшей до дому Р<озанова>. В<арвара> Д<митриевна> сидела уже одетая. Никого не было. Надя стояла на коленях, читала псалтырь. [Она делала все время неверные ударения, и это трогало: такая неумелая чтица, и такая радостная, в слезах радости, веры!] Я послал мальчиков поторопить о. Влад<имира> Соловьева с выносом [он служил 24-го утреннюю панихиду, академик, по просьбе о. Павла]. Приехал К. В. Вознесенский. В. В-ча обложили елочками. Подержанный золотой покров. Опять чуть-чуть приоткрылись глаза, и зрачки были чуть видны, [и это не было неприятно]; взор был не мутен, а ясен – и глубоко, успокоенно спокоен. Так и остались глаза. Я попросил у Нади псалтырь и, стоя на коленях, почитал. Как недавно – 9/XII – я еще говорил ему о царе Давиде! Слушай же, слушай; милый и дорогой, вот твоих любимых евреев лучший пророк и царь любимый! Что говорит: “не оставиши души моей во аде, ниже даси преподобному твоему видети истление”. Я читал это, и верю, и верил, что “не оставит” и “не даст” и душе раба Его Василия. Когда читала Надя, я стоял у гроба и смотрел на него. Нет, не “минерал”. Нет, удостоившийся “христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной”. Будем молить и о “добром” его “ответе на страшном судилище Христовом”.
Я вспоминал, как много любви было мне от него – и внимания глубокого, мiра… Лития. Мы подняли гроб – К. В. <Вознесенский>, Гол<убцов>, Юша, Миша, я. Я нес спереди с Юшей. Спустились с лестницы. Я взял елочки и шел впереди и разбрасывал. Их дала Надя. Горящие свечи несли С<офья> Вл<адимировна> и Анна Мих<айловна>, Голубцова. Донесли тихо до храма св. Архангела Михаила. Там о. Павел начал уже проскомидию. Поставили гроб на двух крашеных табуретках. Я надел на голову В. В. венчик. После евангелия пришли в храм архим<андрит> Иларион и иер<омонах> Иоасаф, стали петь на клиросе. Пришел С<ергей> П<авлович> с М<арией> Ф<едоровной>.
Какой смысл великий: В. В. умер в неделю о Закхее. С ним поступили и меня звали поступить: “буди тебе яко язычник и мытарь”. Мы все думали и говорили: “Как неблагополучно в доме Розановых”. Таня даже говорила со слезами С<офье> В<ладимиров>не: “На нас точно проклятие”. А<лексан>др Дм<итриевич> говорил: “Его на 10 в<ерст> к Посаду не надо подпускать”. Мансуровы косились слегка на С<офью> В<ладимировну> за знакомство с В. В. и вот, воистину: “Начальник мытарей некто именем… искал видеть Iисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом… Iисус сказал ему: Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме… И все, видя то, начали роптать и говорить, что Он зашел к грешному человеку…” Iисус сказал ему: “НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее” [Лук, 19, 2–10]. Над умирающим и над умершим им висела икона Варвары В<еликомучени>цы – “избавляющей от напрасныя смерти”. В ногах его стояла верная его Варвара Д<митриевна>, благодарящая Бога за праведную его кончину. Его хоронили в день Б<ожией> М<атери> “Утоли моя печали”, а образок этот С<офья> В<ладимировна> осенью почему-то подарила Тане, и теперь у него в руках лежал этот образок. Отпевали его в церкви Архангела Михаила, победителя беса, “стража покаяния”. И в иконостасе храма справа был – он, слева св. Варвара. И нес его тело сын того человека, который не пустил бы его 10 в<ерст> до Посада.
Отпевать вышел ар<химандрит> Иларион, слева стоял Варфоломей. Читал Непорочны и канон. Иларион, Варф<оломей> и о. Павел говорили ектении [также и Иларион], и пели – все. О. Павел читал разрешит<ельную> молитву, и не знаю, так ли там сказано, или он оговорился, или нарочно сказал, но он вместо “всякое огорчение его – словом, делом, помышлением” – прочел: “мыслью”. Меня это поразило. Да, именно согрешение мыслью. А еще странно и сладко было слышать на его отпевании припев канона: “Дивен Бог во святых Его, Бог Израиля”. Этому Богу, Богу Израилеву, никогда не мятежничал он, а Этот Бог – не есть ли просто Бог, наш Бог, пославший Сына Единородного?
Стали прощаться. О. Павел трижды благословил его. Я поцеловал руку его и перекрестил его трижды. Принесли крышку гроба. Я оправил его. Крышку забили. Мы – С<ергей> П<авлович>, Гол<убцов>, К<онстантин> Вас<ильеви>ч, я, Миша – подняли гроб. Около церкви была лития. Поставили на простые дровни, на душистое сено. Лошадка русская, доброглазка – поехала тихо. Нет мерзких петербургских улиц, страшных “литературных похорон”, речей, венков, нововременцев, декадентов и нео-христиан за гробом. Скрипит снег.
Солнце “на лето”. В<арвара> Д<митриев>на ехала на извозчике вслед. Служили литию у дома – о. Павел в скуфейке. Миша нес икону. Служили у д<ома> Александровых. Тут я понес икону – Божию Матерь, кажется, его венчальную с В<арварой> Д<митриев>ной. Вышли на Вифанку. У перепутья дорог в Гефс<иманский> и Черн<иговский> остановились. В последний раз видит он Лавру, куда так странно, промыслительно был приведен Богом. Умер бы в Пет<рограде> – были бы кругом нецерковные люди, холод бесцерковный, гнилое кладбище… Отслужили литию. Тут Миша понес икону, но в лесу я опять взял у него и донес до Черниговской. Дочери шли радостные, счастливые. А он шел в монастырь, за крепчайшую из стен церковных, слушать звон, напевы молитвы, лежать с тем, кто звал его таинственно в Посаде, сказать какую-то великую Тайну. У Гефс<иманского> скита – лития. Завозили в Черн<иговский>. Вдруг раздался тихий, тихий звон. Я подумал: бьют часы. Тишина. Снег. Лес. Солнце. Радость сквозь слезы в душе. Нет, не часы: это его встречают тихим перезвоном. Последнюю почесть отдали ему – не литераторы, не политики, не евреи, не государство – а монастырь. Перезвон стал громче… Стало видно духовенство у Св. ворот: три иеромонаха, два иеродиакона с кадилами, все в белых ризах, запрестольные Кресты и Божия Матерь, монахи – певчие. Никто не ожидал такой встречи. С ними был С<ергей> П<авлович>, поглядел вперед предупредить, но они и без того ждали с 11 ч. Лития. Поют монахи, кадят ему торжественно иеродиаконы. Какой чин во всем, сила, красота! Мы подняли гроб и понесли мимо собора. Пели “Святый Боже”. Остановились около могилы Леонтьева. Я, неся гроб, заплакал: его могила была рядом с Леонтьевым, так что землю его могилы привалили вплотную к Леонтьевскому памятнику: кто придет к Л<еонтьеву> – придет к нему, кто к нему – к Л<еонтье>ву. Так и в мысли. Так и я пришел к ним. Я сказал иеродиакону: “Поминайте на ектеньи и монаха Климента”. И последняя служба над ним была и службой по монаху Клименту. Шли молиться “о упокоении новопреставленного раба Божия Василия и раба Божия монаха Климента”. Отпели литию. Я взял под руку В<арвару> Д<митриев>ну и вывел на земляную кучу. Она посмотрела на гроб. Я подал ей комок земли, она бросила его. Она шептала: “Какая кончина!” Я: “Какая кончина – такое и погребение”. Я стоял опираясь о памятник Л<еонтье>ва. “Где Бог привел!” – сказал С<ергей> П<авлович> – “Рядом”. Дочери были счастливы. Монах сказал М<арии> Ф<едоров>не: “Вот возносятся умом, возносятся, а потом придут к Преподобному. ‘Пусти нас к себе, прими нас’, – и принимает”. Он читал что-то из Леонтьева и слышал о В. В-че. “Сведите меня”, сказала В<арвара> Д<митриевна>. Надя осталась на могиле, Таня пошла к благочинному заказывать сорокоуст. Я усадил В<арвару> Д<митриевну> на извозчика, она уехала с Евд<окией> И<вановной>. Встречаю Надю в воротах. “Пойдемте к о. Порфирию”. Она с радостью. Там уже были в сенях Мансуровы, и в келье С<офья> В<ладимировна> и Миша. Когда они ушли, мы вошли в келью, бывшую о. Варнавы. “Вот, батюшка, это дочь покойного”. Он благословил. В это время входит Таня. Мы оставили их с ним в дальней комнате. Слышно было, как радостно утешал он их – и вышли оне от него сияющие, с листочками, радостные-прерадостные. Пасха на лицах и в душах. Дал и нам по листочку и пошел к вечерне (2 ч. дня). Я сказал Тане: “Вот папа сам пришел в монастырь – и вас сюда привел к старцу”. Она: “Сколько раз я собиралась к о. П<орфирию>! Раз дома рассердилась, поссорилась и убежала снова. И все-таки не пошла. А теперь папа привел”. – “Мы будем часто, часто ходить” (Надя). Мы сели в розвальни, привезшие тело В. В., и поехали – я, М<ансуров>ы и Р<озано>вы – через киновию. Таня и Надя сияли. Таня: “Только три раза в жизни у меня была такая радость: в прошлом году на Пасхе, еще раз [я забыл, когда] и теперь. Как Аля просила меня: ‘Увези папу’”. “А папа как водил Лемана к Черниговской. Как на Пасхе с мальчиками мы ходили с папой встречать патриарха”. Счастливые, счастливые воспоминанья. “Чудо. Все чудо. Все Бог” (Таня). Мы довезли их до дому. “‘Веселые похороны’ – странно даже как-то”, – говорил С<ергей> П<авлович>.
А когда С<офья> В<ладимировна> с Мишей вошли к о. П<орфирию>, он в епитрахили молился. Он поминал [новопреставл<енного> Алексия – т. е.] В. В-ча: [он забыл имя].
И оставили мы В. В. в стенах монастыря навеки, слушать звон тихий, внимать молитвам, рядом с иноком Климентом, около алтаря Божией Матери, в соседстве с кельей старца. Вечная память!
Нет, он был не фавн, не березка, как я иногда думал, не минерал, не еврей без Христа, – он был раб Божий, кому дал Господь светлую кончину и светлое погребение.
Все думаю о нем.
Целые дни думаю».
132
«Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и, кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотою толпы никого еще туда и не пропустили. Так что “похороны Толстого” в то же время вышли “выставкою Добчинских”…
Суть Добчинского – “чтобы обо мне узнали в Петербурге”. Именно одно это желание и подхлестнуло всех побежать. Объявился какой-то “Союз союзов” и “Центральный комитет 20-ти литературных обществ”… О Толстом никто не помнил: каждый сюда бежал, чтобы вскочить на кафедру и, что-то проболтав, – все равно что, – ткнуть перстом в грудь и сказать: “Вот я, Добчинский, живу; современник вам и Толстому. Разделяю его мысли, восхищаюсь его гением; но вы запомните, что я именно – Добчинский, и не смешайте мою фамилию с чьей-нибудь другой”…»
133
В Житии старца Варсонофия приводится его диалог с кем-то из журналистов: «Ваше интервью, батюшка!» – «Вот мое интервью, так и напишите: хотя он и Лев был, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана».
134
В примечаниях к письмам Розанова Э. Голлербаху, составленных Е. Голлербахом (внуком Э. Ф.) в 1993 году, это же письмо от 2 мая 1919 года цитируется в иной редакции по подлиннику, хранящемуся в частном собрании М. С. Лемана: «Очень я была удивлена, что Зинаида Николаевна распускает легенду о поклонении папы Озирису, Изиде и Астарте, ведь Дмитрий Сергеевич знает подробности его смерти. Я писала ему и получила от него несколько писем, в которых он пишет о кончине отца, глубоко вникая в величье его кончины, принимая ее как торжествующую победу Христианского начала в нем, с которым всю жизнь он боролся. Дмитрий Сергеевич все знает и понял. Крепкая же цепь еврейская. Брр…»
135
Ср. в воспоминаниях самой З. Н. Гиппиус:
«Звонок по телефону:
– Розанов умер.
Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.
Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные дни. Кончину “христианскую”, самую “православную”, на руках Ф<лоренского>, под шапочкой Преподобного Сергия.
Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он – “узел, Богом связанный”, пусть его Бог и развязывает.
Христианин или не христианин – что мы знаем? но верю, и тогда, когда лежал он совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:
Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?
Неужели умрем, и ничего?
Господи, неужели это – Ты».
136
Это – запись из дневника Дурылина 1919 года. Ср. также в более поздних мемуарных записях: «…Когда умер В. В. [Розанов], я приехал в Москву и с удивлением слышу от многих из писательского мира, что В. В., умирая, будто бы призывал Изиду – Египетскую тиароносную Изиду.
– Правда ли это?
Отвечаю:
– Вздор. Умирал при свидетелях и призывал, действительно, только не Изиду, а ХРИСТА.
И спрашиваю:
– От кого Вы это слышали?
– От Гершензона.
Зачем понадобилась эта “творимая легенда” Михаилу Осиповичу, – до сих пор не понимаю. Вас. В-ча он очень ценил и знал ему цену…»
Ср. также: «Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, нужно было положить на веки медяки, чтобы не раскрывались веки. Но денег тогда медных в России не было, и карманы были полны ничего не стоившими бумажными пятачками Керенского. И пришлось взять какие-то медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые монеты…»
(С. Н. Дурылин «В своем углу»)
137
Ср. также в письме Флоренского Н. Н. Глубоковскому от 13 марта 1919 года: «Розанов скончался мирно и благочестиво, за время болезни несколько раз приобщался и соборовался. От своих убеждений он не отрекался, но как-то совместил в себе радость благодати – ибо он таинственно был крещен за время болезни – свои думы о важности рождения. Погребение его было бедное, чтобы не сказать убогое: везли его на розвальнях. Но все было благолепно и светло – так искренне и красиво».
138
Ср. также: «От В. В-ча, – даже в кощунствах его – я не испытывал никогда отвода меня от живого, теплого, греющего в религии. А тут – холодом веет даже от его благословляющей руки. Его сочинения – ледяной дом… Мертвая вода. Мертвая, ледяная. Что из того, что чистая? Что из того, что бьет сильной, ослепительной струей? Все-таки – мертвая, все-таки ледяная. А у В. В-ча покойного и с грязцой была, и с мутью, и с завороженной в нее землей – но теплая, живая… Грязь отстоится и землю выплеснуть можно, а тепло, а живота останется. А от льда только и избавиться можно тем одним – растопить его на солнце, и его не будет, просто не будет».
Ср. оценку Флоренского в воспоминаниях Т. В. Розановой: «В сущности, он был глубокий пессимист, в нем было мало благодати и много рационализма. Мне кажется, он и сам это сознавал».
139
Ср. в «Апокалипсисе нашего времени»: «И наконец, неудавшееся христианство. Не может быть сомнения, что старец Зосима, конечно, есть язычник…»
140
«Варя гуляла с детьми, решила летом искупаться с ними, а потом вздумала в рубашке танцевать “a la Дункан”. В это время, к несчастью, проезжал мимо заведующий отделом народного образования – крупный партийный работник – Смирнов. Увидев такую сцену, он ужаснулся, решил, что это полный разврат, и Варю уволили».
141
Впрочем, справедливости ради в конце 1930-х годов дочерям Розанова удалось продать в Литературный музей рукописи отца. «Мы получили 25 000 рублей, разделили на три части, и первый раз вздохнули свободно от гнетущей нужды», – писала в воспоминаниях Т. В. Розанова. Еще одна часть архива была частично продана, а частично пожертвована Татьяной Васильевной и Надеждой Васильевной в 1947 и 1956 годах.
142
Ср. также «Открытое письмо литераторам к полугодовщине кончины В. В. Розанова» Э. Ф. Голлербаха:
«Смиритесь, русские писатели, задавите в себе “литераторов” и все “литературное” – мелкое тщеславие, честолюбие, стремление возвести свое писательское “я” в единственную, незыблемую ценность. Каждый из вас по-своему хорош, нужен, интересен, но поверьте одному, поймите одно: Василий Васильевич Розанов был первым мировым мыслителем, безумно-гениальным, гениально-неповторимым, неповторимо-великим! Создадим же ему вечную память. Будем изучать его произведения до последнего слова (многие и многие их не знают), будем распространять его мысли и раскрывать скрытое значение его слов. Заклеймим жалостью уличных зубоскалов, насмешливых глупцов, пошлых завистников, целые десятилетия лаявших на Розанова и до сих пор произносящих его имя с наглой и тупой улыбкой.
Розанов был пророком. Розанов был титаном, провидцем, святым. Он был святым, потому что гениальность и есть святость. У него было много недостатков, многое было в нем уродливо, но это нисколько не опровергает его святости: “нечто” (в “ничтожестве”), чтобы сознать себя; самосознание становится сильнее всего после вины; Грааль и Копье родственны.
“Свет из тьмы! Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их…”
(Вл. С.)
Розанов был нужен, как нужен был Христос, но “по-другому”, “по-современному”. Он не был вторым Христом, но не был и Антихристом, он был “Анти-антихрист”. В наш век псевдорелигиозности и псевдокультурности он был воплощенным Ренессансом истинной религии и культуры.
Будем любить Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева, но еще больше полюбим (когда до конца узнают) Розанова. При всей своей слабости, он был сильнее их; при всей своей порочности – непорочнее, светлее, чище. Умирая, он благословил нас, литераторов, завещал забыть вражду и разделение, всех простил и у всех просил прощения. Благословим же и мы его великою любовью, великим сочувствием, великим пониманием. Будем славить его имя, невзирая ни на какие осуждения справа ли, слева, сверху или снизу. Необходимо воссоздать Петербургское Религиозно-философское Общество, несколько лет тому назад прекратившее свою деятельность, и назвать его “Религиозно-философским Обществом имени В. В. Розанова”. При нем должен возникнуть особый семинарий по изучению жизни и творчества Розанова.
Это будет лучшим памятником покойному великому мыслителю».
143
Вот постановление об аресте из его следственного дела 1927 года (опубликовано в книге «Сергей Дурылин и его время»): «Я, уполном<оченный> 6 отд<еления> СО ОГПУ Казанский А. В., рассмотрев следственное производство по делу №<47306> на гр<ажданина> Дурылина Сергея Николаевича, нашел, что таковой имел отношение к руководителю антисоветской группы почитателей писателя Розанова, Леману; давал последнему справки и устные сведения о настроениях, высказываниях Розанова и его биографии; сам же Дурылин пропагандировал некоторые моменты из учения Розанова, являющегося, несомненно, контрреволюционным. На основании изложенного полагаю: предъявить Дурылину С. Н. обвинение по ст. 58/14 УК. Мерой пресечения избрать содержание под стражей. Уп<олномоченный> 6-го отд<еления> СО ОГПУ Казанский».
В деле сохранился также ответ Сергея Николаевича на вопрос следователя о личном отношении к Розанову «как к писателю и философу», и он любопытен тем, что здесь нет той свойственной Дурылину романтической восторженности в отношении В. В.: «Я считаю, что существует не Розанов, а Розановы, так как в его сочинениях масса совершенно противоречивых взглядов и мнений. Меня, лично, интересовали два, главным образом вопроса, им разработанных. Это: критика Лермонтова и половой вопрос, тщательно Розановым обработанные. В этих разделах Розановской философии тоже противоречивость. Никогда нельзя сказать, какова будет следующая мысль. Так, за образец в половой жизни, в жизни семьи он ставит еврейство; остальным, по его мнению, народам далеко до них в организации половой жизни. Далее он развивает свой взгляд на еврейство в этом отношении, таким образом, он считает юдаизм “действительно природной материалистической религией для жизни, как философией сохранения рода” <…> Такая же беспринципность у Розанова и в других вопросах, например, в вопросах политических. В общем, он был пригоден для каждого правительства (какой-нибудь стороной)».
144
Платон мне друг, но истина дороже (лат.).
145
См. продолжение этой цитаты в пришвинском дневнике: «Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.
Мое первое столкновение с ним было в 1883 году. Я, как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в “Азию”. На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: “Поехал в Азию, приехал в гимназию”. Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту».
146
«Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья… Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица».
147
«Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве. Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца! Особенно “Кащееву цепь”. Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства… Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души… М. М. никогда не останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».
Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».
И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать… Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби».
148
Так, 4 июня 1944 года Татьяна Васильевна писала М. М. Мелентьеву: «Дорогой М. М., за недосугом нельзя нам часто друг другу писать, а поэтому как ценишь каждую строчку письма. Второго мая была у сестры Наденьки, и она согрела меня своей любовью. Трудно, бедняжке, ей очень. Комнаты нет. Вещей никаких нет. И я такая больная… И Варя [сестра Варвара Вас. Гордина] вряд ли жива. Боль и жалость в сердце о ней ужасная».
149
Ср. также в дневнике Мелентьева: «Приехала Т. В. Розанова. Хочу, чтобы было ей хорошо, бесхлопотно и бездумно, но думаю, что не удастся это мне. Есть люди, не рожденные для тишины и покоя – они все время в “трех волнениях”. Такова и моя гостья. Слишком много тяжелого было у нее в жизни».
150
Ср. фрагмент, в котором автор воспроизводит диалог своего лирического героя с «пучеглазой мямлей», «книжником» и «фармацевтом Павликом», хотя, конечно, это излюбленный прием разговора Венечки с самим собой:
«Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкой три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.
– Реакционер он, конечно, закоренелый?
– Еще бы!
– И ничего более оголтелого нет?
– Нет ничего более оголтелого.
– Более махрового, более одиозного – тоже нет?
– Махровее и одиознее некуда.
– Прелесть какая. Мракобес?
– “От мозга до костей”, – как говорят девочки.
– И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?
– Сгубил. Царствие ему небесное.
– Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?..
– В какой-то степени – да.
– Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?
– Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.
– И всю жизнь, и после жизни – никакой известности?
– Никакой известности. Одна небезызвестность.
– Да, да, я слышал (“Погоди, Павлик, я сейчас иду”), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо: об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, “простер совиные крыла”, Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, “не та беда, что ты поляк”, Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, “по Невскому бежит собака”, Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде… Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?
– Решительно всех.
– И переплюнул?
– И переплюнул.
– Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я ухожу.
– Умер, как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон».
151
Так, Горький писал Пришвину из Сорренто 15 мая 1927 года: «Верно, Михаил Михайлович, сказали вы о Розанове, что он, как “шило в мешке – не утаишь”, верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с ним не встречался, но переписывался одно время и очень любил читать его противопожарную литературу. Удивляло меня: как это неохристиане Р<елигиозно>-ф общества могли некоторое время считать своим человеком его – яростного врага Христа и христианского гуманизма? Он, у нас, был первым предвозвестником кризиса гуманизма, и Блок, в этом вопросе, шел от него, так же как от него шел и Гершензон в своем отрицании культуры, особенно резко выразившемся в “Переписке из двух углов”. В этом смысле и в этой области – борьба против Христа – Розанов был одним из наших “духовных” революционеров, – на мой взгляд, и хотя он был – из робости – косноязычен, но по прямолинейности мысли не хуже Константина Леонтьева и Михаила Бакунина».
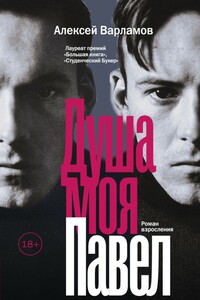
Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.
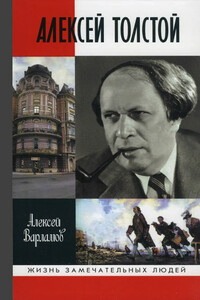
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».
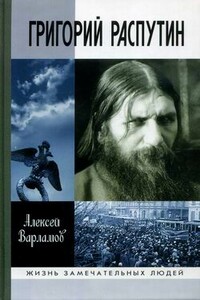
Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

«Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
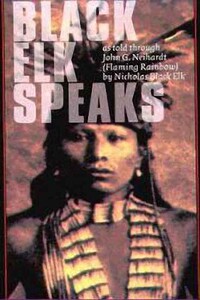
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
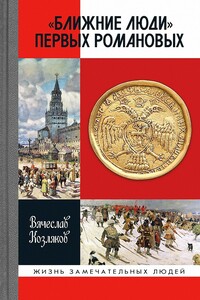
Люди, приближенные к царствующим особам, временщики и фавориты имелись во все эпохи, независимо от того, как назывался правитель: король, царь или император. Именно они зачастую творили политику, стоя за спиной монарха или обсуждая с ним с глазу на глаз самые злободневные государственные вопросы. На Руси их называли «ближними людьми». О трех таких «ближних людях» XVII столетия рассказывает в своей новой книге известный историк Вячеслав Николаевич Козляков. Героями книги стали «первый боярин» царя Михаила Федоровича князь Иван Борисович Черкасский, воспитатель царя Алексея Михайловича боярин Борис Иванович Морозов и «великий канцлер», «русский Ришелье» Артамон Сергеевич Матвеев.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
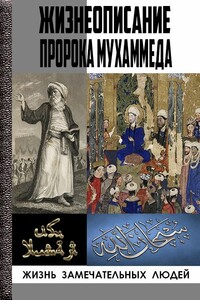
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.