Росстани - [17]
Не выла Арина, не причитала – чего причитать! Приняла великую потерю молча, плакала тихими старушечьими слезами, последними, мелкими, как бисерок, и эти слезы не скатывались, а липли и размазывались по морщинам, и мокрый был от них замшенный и заострившийся подбородок. С выкриками причитала Софьюшка, только-только совсем живого видевшая Данилу Степаныча, как он порадовался на первые огурцы. Огурец так и остался лежать на столе. И Ванюшка, глядя на мать, ревел, растянув белозубый рот, передыхал и опять ревел.
Прибежали соседи. Стоял в валенках и в полушубке на худых плечах Семен Морозов и говорил едва слышно:
– Глаза-то закрыть надо… закрыть глаза-то…
Набежали бабы, заняли весь палисадник, трещал от ребят забор.
Надо было распоряжаться. Степан выгнал баб, чтобы не мешали, переложил с Софьюшкой на простыню Данилу Степаныча и перенес в комнаты на сено. Так распорядилась закаменевшая в своем горе Арина. Здесь принялись обмывать двое, Арина и Дударихина мать, а Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город – сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой, и Дударихина мать спросила у Арины, можно ли взять обмылки. Арина отдала ей белье: так всегда делалось. Потом принесли с террасы дубовый раскладной стол, настлали свежего сена, накрыли простыней, обрядили покойного в чистое белье, одели в новый халат, шитый на Пасху и всего раз надеванный – серый с голубой оторочкой, расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидали, что все еще выглядывают глаза из-под век, пошептались: выглядывает еще кого по себе. Арина нашла два старых пятака – лежали у ней в мешочке в укладке вместе со смертной рубахой и темным платьем, сшитыми загодя. Не первые глаза накрывались этими пятаками. Положила Даниле Степанычу на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки-одна на другой восковыми ладонями, с парою больших медяков на глазах, как в темных очках.
Смотрели на него из уголка заплаканными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой, думали. А Софьюшка все рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниле Степанычу огурчиков с огороду и как он радовался, как велел сделать ботвиньицы и как все советовал ей выходить замуж.
А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за пять верст в женскую пустынь, взять монашек – читать.
И когда ехала она из пустыни с молоденькой послушницей и знакомой старушкой-монахиней в черном шлычке, захватил их дождик в лесу, слабая дальняя гроза. Стороной прошла туча, в стороне погромыхивало, а здесь только крапило и не закрывало солнце. Был шестой час, солнце чуть косилось, и солнечный дождик весело крапал по листьям орешника.
– Праведник помер, царство небесное… – сказала на дождик послушница, засматриваясь в тихий зеленый свет рощи. – Какой дождичок-то!
– Дай-то Господи! – вздохнула и покрестилась Арина. – Уж так-то тихо преставился… Дай-то Господи!
– А сподобил Господь приобщиться-то? – спросила старушка-монахиня, наклоняясь за Степаном перед низко опустившейся лапистой веткой орешины и умывая дождем усыхающее лицо.
– Петровками-то говел, как же… – сказала Арина. – Какие уж у него грехи! Переболел все…
– А вот как же сказано, что насчет того… – обернулся Степан, – что, например, очень трудно им проникнуть… которые богатые… Даже верблюд может чрез иглу пролезть… а им трудно… Это как?
– А не нам знать, а не нам знать, голубчик… – сказала старушка. – Сказано, буди милостив…
– Так-то та-ак… а вот известно, что никакой капитал не бывает от труда, а через разные причины… так что тут… очень трудно…
– Господь в своем милосердии призывает каждого… несть на лица зрения у Бога… – тоненьким голоском начала послушница, а Степан нагнулся перед набегающей веткой и крикнул:
– Держись!
Весело сыпал дождик на солнце, блестел на грядках телега, на сытой спине лошадки, нависал сверкающими каплями под дугой. Пахло грибом и елкой.
Повстречалось близ деревни стадо. Хандра-Мандра стоял у дороги, курил. Увидала его Арина, сказала:
– Скончался братец-то…
– Да, царство небесное… отжил… – хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. – Когда хоронить-то?
Но они не слыхали. А он уже все знал: повстречал его давеча Степан.
На въезде нагнали горбачевского батюшку в тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил, покуривая.
– На панихиду к вам, Арина Степановна! – крикнул батюшка. – Воля Господня… Дали знать-то?
– Дадено! – крикнул, объезжая, Степан.
– Свечей-то, батюшки! – крикнула Арина.
– Всего взято-с! – успокоил ее баском псаломщик. У дома стояла чья-то телега, и Степан по лошади признал бородача-старосту из Шалова. Подумал: «Чисто по телеграфу им известно». И только стали слезать с телеги, сказал:
– Монахи едут!
Обогнала батюшкин тарантас пара, с пристяжной на отлете: ехал отец казначей в высоком клобуке и двое послушников.
На крыльце вспомнила Арина, что оставила ключи в комоде, и затревожилась. Сейчас же пошла и увидала, что комод заперт, а ключей нет.
– Ой, растащили…
Кликнула Софьюшку, пытала. Сказала ей Софья прямо в глаза:
– Ой, грех какой… да что вы, что вы… все сберегла, заперла… да как же это я… да я разве…

«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».

Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».

В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
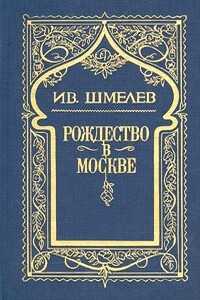
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
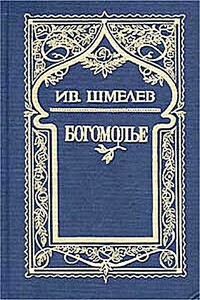
«Богомолье», наряду с романом «Лето Господне» — вершина творчества Шмелева.«Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта… Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви» (И. А. Ильин).Собрание сочинений в 5 томах. Том 4. Богомолье. Издательство «Русская книга». Москва. 2001.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».