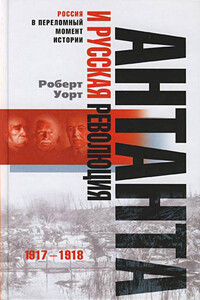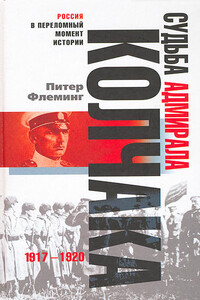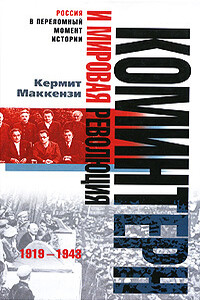17-го я сел в поезд до Ревеля. Не буду описывать переполнявшие меня чувства, когда колеса начали вращаться, когда стали удаляться силуэты жены, родственников и друзей, неподвижно стоящих на перроне, ставшем мне вдруг таким родным. На этой земле я родился, жил, страдал, любил, в этой земле покоился мой отец и многие поколения предков. Сейчас моя родная земля удалялась, а я не знал, увижу ли ее еще когда-нибудь.
Служащие вокзала не могли скрыть удивления при виде странного русского, уезжающего за границу и при этом плачущего. Они-то привыкли к тому, что эмигранты выражают совсем другие чувства.
ГПУ так часто отправляло телеграммы с приказом задержать на границе уезжающего, даже если у него все документы были в порядке, что сердце мое болезненно сжалось, когда поезд остановился на последней станции перед Эстонией. Но у меня всего лишь проверили паспорт и содержимое двух чемоданов, которые мне позволили взять с собой[41].
Я был в Ревеле всего один день, когда узнал, что накануне в Варшаве белый убил советского посла. Легко себе представить, какие последствия это покушение вызвало в СССР. Могу сказать, что заложники, о которых несколько подзабыли накануне моего отъезда, сейчас вновь поднялись в цене. Полученное от жены письмо подтвердило, что я уехал вовремя. В заранее условленных выражениях она сообщила мне, что во вторник в нашу квартиру приходили сотрудники ГПУ и спрашивали меня; а я уехал в воскресенье.
Я почувствовал себя свободным только после того, как пересек границу. Избавление же ощутил, лишь достигнув Франции, Парижа. Здесь я и живу с тех пор. Моя сестра с мужем обосновались в Брюсселе. Матушка делит свое время между Брюсселем и Парижем. В двух этих городах живут остатки нашей семьи, глава которой, ушедший первым, остался в России, как и его невестка, которой он никогда не знал.
С болью в сердце сообщаю, что жена ко мне не приехала. Она не смогла ускользнуть из страны и осталась в ней пленницей. Очевидно, ее держат из-за ее собственного происхождения, а также потому, что она последняя в СССР, кто носит фамилию Скрыдловых. Сколько там таких же, как она, виноватых без вины?
Во всяком случае, на моей новой родине фамилия, которую я ношу, не навлечет на меня неприятностей. Это огромное счастье, понятное немногим.
Теперь я в полной безопасности могу вспоминать различные ситуации, в которых звучала фамилия Скрыдлов. Могу размышлять над переменами в отношении к ней людей, о чем знаю на собственном опыте.
Я могу беспрепятственно вспоминать, что при царях наша фамилия звучала как синоним понятий «слава», «либеральный дух», «крамольные идеи»; а при Советах увязывалась с монархией, подавлением, с враждебными идеями. У ультрамонархистов она ассоциировалась с народной любовью; у большевиков с устаревшим принципом – верностью монархии.
Красная для белых, белая для красных, она как будто свидетельствует, что всякий цвет в этом мире относителен и что в конфликте наций, эпох и идей монополии на истину нет ни у одной стороны.