Роман-царевич - [18]
— Постой, — перебила ее Литта. — А когда она тебе это сегодня сказала… ты что же? Неужели перед ней заплакала?
— Ничуть. Я сначала окаменела. А после что-то сказала, уже не помню, кажется «хорошо» или «вот как», пустое что-то. А после, она уж выходила, я вслед сказала о разводе, что если Алексей захочет развод, то я готова… Только она, должно быть, не слышала, я тихо сказала.
— Ну, и прекрасно, какие разводы! Право, мне кажется, все это сон какой-то.
— Просто проклятие, а не сон. Надо же Сменцеву, подкинул нам эту неизвестную особу — сам исчез. Какая бесцеремонность!
Тетя Катя встала с постели и теперь ходила по комнате большими шагами.
Литте вспомнилось вдруг, как Сменцев желал Алексею Хованскому для излечения от хандры влюбиться. Вряд ли думал, что пожелание это так скоро исполнится. Впрочем, тут совсем что-то не то. Чепуха какая-то.
— Я с ним всю ночь сегодня буду говорить, — решила Катя. — Пусть прямо скажет. Все равно.
— Только спокойнее будь, Катя. Право, лучше. Не серди его напрасно.
— А завтра утром я к тебе приду и все расскажу. Длить этого нельзя.
До темноты сидела Литта у Катерины Павловны. Уложила ее и, сойдя вниз, сказала, что барыня не так здорова, чай пить не будет, да и ей, Литте, чаю не надо: она тоже уходит в свою комнату. Пусть приготовят для барина и для барышни.
Ей подали письмо. Случайно работник привез со станции.
«От кого бы это? — думала Литта, поднимаясь по лестнице.
Почерк длинный, острый и такой черный, ровным нажимом. Письмо, к удивлению, оказалось от Сменцева. Очень короткое. Роман Иванович надеется, что она здорова, что он застанет ее на Стройке, куда скоро вернется. У него есть интересные для нее новости. Просит передать почтение всем, а Габриэли, которая, по всей вероятности, еще у них, его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург не позже и не раньше двадцать пятого числа.
Вот и все.
Но у Литты губы побелели от злобы. С какой стати ей — это письмо? И, главное, передача приказаний Габриэли — через нее.
В какое он положение ее ставит? А тут еще эта история… Положительно невыносимо.
Разорвать письмо и ни слова никому. Пусть как хотят. О, если б убежать, уехать завтра же и со Сменцевым этим не встречаться больше…
Но уехать некуда. И Катю бедную ей жаль. Ничего она не понимает; и Литта, правда, мало понимает, но как же оставить одну?
А не лучше ли, если эта Габриэль уедет? Ведь двадцать пятое завтра… Стиснуть зубы, спрятать в карман все свои самолюбия, наплевать внутренне на всякие — „что вообразит Габриэль“, пойти сейчас вниз (Литта слышит, они вернулись, пьют чай на террасе, говорят) — и объявить „приказ“ Сменцева. И кончено. Она послушается. Фантазии — фантазиями, а послушается.
Да, так и сделать. Не стоит дольше рассуждать.
Письмо в кармане, опять Литта идет по надоевшей круглой лестнице. У порога на террасу останавливается дух перевести. Уж очень ей противно.
На столе самовар; свечи в круглых стеклянных колпаках освещают снизу ближайшую зелень, и она кажется тяжелой, серой, чугунной.
Говорят; громко, — дружески, кажется. Говорит Габриэль. О чем-то возвышенном; нельзя понять, не то о философии, не то о какой-то „народной правде“… Литта, впрочем, не вслушивается…
— А, Лилиточка! — весело крикнул Хованский. — Так вы не спите? Что, у вас голова болела?
— И теперь болит. Очень. Я на минутку сошла. У меня дело… Вот Габриэль… Федоровна… — продолжала она с усилием, — я сейчас только получила письмо от Романа Ивановича. Он просит меня передать вам… его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург… не раньше и не позже двадцать пятого. Этими словами он пишет.
Габриэль удивленно вскинула глазами.
— Вам он пишет? Просит приехать? А сам что же?
— Я ничего не знаю, — сдерживаясь, проговорила Литта. — Вот я передала.
Повернулась, чтобы выйти. Но Габриэль вскрикнула взволнованно:
— Я удивляюсь! Почему же он мне прямо не написал? И разве почта была?
Литте захотелось бросить ей проклятое письмо в лицо и убежать; но усилием воли она вдруг совершенно успокоилась, даже улыбнулась.
— Кузьма привез мне письмо со станции. Оно со мной. Хотите взглянуть сами? Я передаю точно. А если Роман Иванович не адресовал письмо вам, то, вероятно, имел на то основания.
Габриэль опомнилась. Сделала серьезное лицо.
— Да, да, я понимаю. Конечно, имел основания. Зачем же мне письмо? Надо ехать — ну и поедем. Когда у нас двадцать пятое?
Хованский, с удивлением смотревший на эту сцену, сказал:
— Мне самому нужно к двадцать седьмому в Петербург. Я бы вас проводил…
— Нет, нет, я поеду, как сказано. Там увидим.
— Спокойной ночи, — поспешно перебила ее Литта. — Простите, ужасная мигрень…
И она ушла.
Думала, что долго не уснет, — но спала крепко, сладко, радостно, забыв все, что мучило.
Утром ее разбудила поцелуями тетя Катя.
— Милая, здравствуй. Знаешь, он меня разговорил. Совсем в другом свете представил…
Лицо, однако, у нее было не веселое, а какое-то недоумевающее:
— Он засмеялся и говорит, что это я виновата, а никакого трагизма нет. Что я, должно быть, сама чем-нибудь вызвала эту Габриэль на объяснение, а к тому же она фантазерка и все слова у нее со своим собственным смыслом. Говорит еще, что действительно любит Габриэль… но так, как если бы это была наша большая дочка… Ты понимаешь?

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью.Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящий сборник – часть большой книги, составленной А. Б. Галкиным по идее и материалам замечательного русского писателя, богослова, священника, театроведа, литературоведа и педагога С. Н. Дурылина. Книга посвящена годовому циклу православных и народных праздников в произведениях русских писателей. Данная же часть посвящена праздникам определенного периода церковного года – от Великого поста до Троицы. В нее вошли прозаические и поэтические тексты самого Дурылина, тексты, отобранные им из всего массива русской литературы, а также тексты, помещенные в сборник его составителем, А.
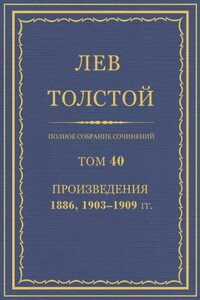
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.
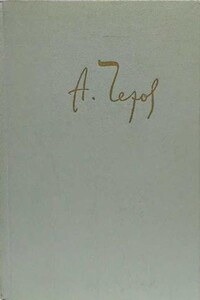
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге представлено весьма актуальное во времена пандемии произведение популярного в народе писателя и корреспондента Пушкина А. А. Орлова (1790/91-1840) «Встреча чумы с холерою, или Внезапное уничтожение замыслов человеческих», впервые увидевшее свет в 1830 г.