Роман-царевич - [15]
— Да я так, спросонков… Сам не любишь на людях. Постой, ты скажи, может случилось что?
— Спросонков, Власушка, вижу… Или уж к старости пуганой вороной становишься. Ничего не случилось. Угомонись.
Старик вздохнул, потом тихонько засмеялся.
— И рад-то тебе всякий раз, а что правда, то правда: трусу праздную. Дел твоих не знаю, одно знаю: худых не будешь делать и кашу большую заварить можешь. Ты ведь не простой, ты у нас Иван-царевич, — Роман-царевич. А только стар я в новое чего впутываться, мне бы что есть дохранить. Пусть любовь моя, помощь да благословение пребудут в тайности.
— Эх ты, Власушка, старец Божий! — весело усмехнулся Роман Иванович. — Я ли твои тайности не уважал. В дом к тебе в гости не хожу, в газете твоей не пишу… Хотя отчего бы? — прищурился он, поддразнивая. — Я ведь мастер… Ежели на цензуру не глядеть, остро можно… Под псевдонимом, а?
Влас Флорентьич замахал руками в ужасе.
— Чего ты, чего ты! Под каким псевдонимом тебя скроешь? Да после не расхлебать, коли что. Голубчик, ты и не мни. Такие времена теперь… А я ли тебя не люблю? Флорешку тебе моего отдал, сам благословил, он человек молодой, пусть ищет, где глубже, ты на худое не поведешь. А я уж свое отжил, меня не пугай, ради Христа самого.
— Да пошутил я, папенька. На что мне твоя газета? А за любовь и за Флорентия спасибо.
— Как он у тебя? — с интересом спросил старик. — Пригождается? Ученый парень, только все мнилось мне — с какой-то он с придурью.
— С придурью! Коли чего папенька в сынке не понимает, то и придурь? Нет, он славный мальчик, тонкий, я им доволен.
Влас Флорентьич опять вздохнул.
— Тонкий. Вот где тонко, там и рвется. Да уж будь, что будет. Пущай его. Вам с ним виднее.
Помолчали. В комнате с прикрытыми занавесями окнами сильно темнело.
— Угостить бы тебя чем, Роман? — встрепенулся старик. — Вина может, ликеров… Я велю Василию, в минуту.
— Нет, не надо, поздно, — отозвался Сменцев. — А вот что: денег ты дай.
— Будет ли у меня? Поглядеть надо. Ведь много, чай, опять возьмешь?
— Не очень. Чека не станешь давать?
— Нет, нет, что чек. Лучше я тебе наличными, из рук в руки. Меж четырех глаз. Коли не хватит — скажи, когда опять придешь? приготовлю.
— Ладно. Пока дай тысячи две.
— Две? Ну, это найдется. Вчера тут лежало…
Влас Флорентьич достал откуда-то ключи и пошел в угол к темному шкапу.
— Электричество поверни. Вон хоть там, у двери. Дверь-то заперта?
Комната осветилась мягким, неярким светом.
— Я ведь не на дела твои даю, я их, дел этих, и знать не знаю, — говорил Влас Флорентьич, возясь у шкапа. — Я тебе даю, лично. Тебе ведь взять неоткуда. Тетенькино-то наследство мужикам роздал, как это у вас там идейно полагается.
— Конечно, конечно, мне даете, — смеялся Роман Иванович. — Уж это все давно решено и подписано. Мне разве пить-есть не нужно. Одеться тоже… Вот осенью думаю за границу поехать. Ну, до тех пор свидимся.
Влас Флорентьич аккуратно запер шкап и повернулся к гостю.
— За границу?
— Да, в Париж. Славный город. Недаром говорится: заедешь — угоришь.
— В Париж?
— Ну да, ведь сказал же. Что, мне туда поехать — покутить, что ли, нельзя?
Старик остро и умно глядел на него из-под седеющих бровей. Глядел и Сменцев; глаза его откровенно смеялись.
Улыбнулся и Влас.
— Кто говорит. Пути соколу ясному не заказаны. Вот тебе, пока. Хочешь считай, хочешь нет. Пачки считанные.
Опустил глаза и, вздохнув, прибавил прежним тоном:
— Вот и Флореша частенько, пришли ему, да пришли. Мне не жалко, что ж, дело его молодое.
— Я знаю, Власушка, ты на лодырничанье не скупишься. Умница ты у меня, старичок.
И он ласково похлопал его по плечу.
— Что ж вина-то не выпьешь?
— Нет, милый, я уж пойду. К тебе еще кто бы не пожаловал. Ведь знают же, что ты в городе.
— И то, — заволновался Влас Флорентьич. — Весьма даже возможно. Да я сам лучше поеду. В типографии человека надо повидать.
— Вот видишь. Прощай же, голубчик. Спасибо тебе.
— Не на чем. Мы што, люди — люди, а ты ведь Иван-царевич. Прощай, Романушка; Христос с тобой, благослови тебя Матерь Божия.
В дверях Сменцев обернулся.
— Ах, старик, старик. Ведь, вот иной раз думаешь: типография у него своя, народ известный, как бы подчас удобно это. А жалеешь тебя и соблазну ни-ни, не поддаешься.
— Что типография? Ну что еще типография? — торопливо отозвался Влас Флорентьич. — Свинчаток этих, что ли, нет? Эка! На наличные-то, друг, свинцу сколько хочешь закупить можно…
— И то правда… Не совсем на одно выходит, ну да уж Бог с тобой. Хороший ты старик. Прощай, лихом не помянешь.
Глава десятая
ЧИСТЫЙ
Жарко.
И сухо, и как-то скучно, — ветрено. От суши и ветра уже падают ранние листья в аллеях. Но за озером, в лесу, болота не сохнут, хотя свежести от них никакой.
Литта гуляет много — одна. Ей хочется быть одной. Такая тоска, такие думы. Впрочем, есть главная дума. Вопрос, который нужно решить. А как его решить?
С отъезда Сменцева прошла не одна неделя, а целых две, — может быть, больше. Габриэль живет на Стройке и живет, освоилась, кажется, очень довольна. Весела, болтлива и не глупа. С Литтой пыталась было дружить вначале, — но как-то не сошлась. Катерина Павловна вечно в суетливых хлопотах, ну и вышло так, что Габриэль больше всего бывает с Алексеем Алексеевичем. Сумела его растормошить, они спорят, гуляют вместе, даже ездят куда-то на кривой таратайке, — Габриэль правит толстопузой деревенской лошадью и хохочет. Веселая.

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью.Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.
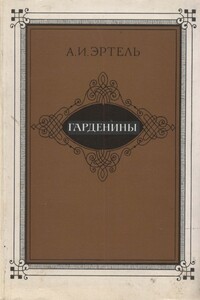
А. И. Эртель (1885–1908) — русский писатель-демократ, просветитель. В его лучшем романе «Гарденины» дана широкая картина жизни России восьмидесятых годов XIX века, показана смена крепостнической общественной формации капиталистическим укладом жизни, ломка нравственно-психологического мира людей переходной эпохи. «Неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа, это удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у новых, ни у старых писателей». Лев Толстой, 1908. «„Гарденины“ — один из лучших русских романов, написанных после эпохи великих романистов» Д.
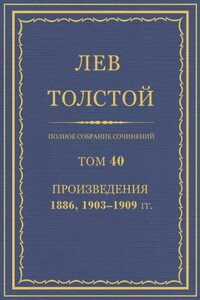
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.
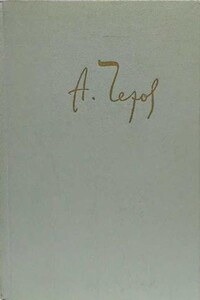
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге представлено весьма актуальное во времена пандемии произведение популярного в народе писателя и корреспондента Пушкина А. А. Орлова (1790/91-1840) «Встреча чумы с холерою, или Внезапное уничтожение замыслов человеческих», впервые увидевшее свет в 1830 г.