Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности - [2]
Совершенно ясно, что подобные представления о реальности и событии не соответствуют реальности виртуальной. В виртуальном событии, каким оно описано выше, никакая сущность и никакой телос не достигают, вообще говоря, совершенной актуализации, и стабильное, пребывающее присутствие и наличие, как мы видели, ему отнюдь не присущи. И это значит, что для любого классического философского дискурса, где доминируют эссенциальные начала, — «дискурса сущности» — вся сфера виртуальности неотличима от чистого несуществования: является невидимою. Виртуальная реальность — неаристотелева реальность. Данное обстоятельство составляет одну из веских причин «устойчивого неравновесия» виртуалистики и одну из серьезных трудностей для устранения этого неравновесия.
Итак, философское продумывание виртуалистики требует выхода за пределы эссенциального философствования, дискурса сущности. Оно возможно лишь в такой философии, которая устраняла бы тотальное господство начал сущности, формы, причины, цели и обладала бы принципиально иными концепциями возникновения, события и явления: более обобщенными и менее жесткими, освобожденными от эссенциального телеологизма и детерминизма и не предполагающими устойчивого наличествования. Но можно ли указать подобную философию? — Бесспорно, европейская метафизика никак не заключается целиком в описанных нами рамках глобального эссенциализма. В составе того же, от Аристотеля идущего, фонда базовых метафизических понятий необходимо присутствуют и такие категории, что по смыслу отнюдь не являются эссенциальными. Этот род категорий удобно выделить признаком, относящимся к грамматике философского дискурса, правилам связывания и согласования понятий. Сущностные понятия выступают в дискурсе в качестве субъектов, или «подлежащих», или «имен» — они наделяются атрибутами, предикатами и т. п., а в аспекте онтологическом, в своем отношении к бытию, они и в настоящем смысле, не фигурально, суть именно — имена: каждое из них есть «некоторое бытие», обозначение и наречение бытия в каком-то его определенном облике, аспекте: что и есть некое имя бытия. И очевидно, что, наряду с такими понятиями, философское построение необходимо включает и другие — категории действия, деятельности, которые в грамматическом аспекте выступают в качестве предикатов, или «сказуемых», или «глаголов», а в онтологическом — указывают, что делается, совершается с бытием, дают бытию не именную, а глагольную (деятельностную) характеристику. Этот род, или ряд не-сущностных и неименных, «глагольных» понятий также достаточно обширен: к нему надо отнести действие, акт, деятельность, движение, энергию, затем и существование, existentia, которую Аквинат небезосновательно противопоставляет essentia, затем и родственное existentia понятие haecceitas, «этости» Дунса Скота, и наконец, целый круг понятий аффективного характера, как воля, влечение, желание… — и ясно, что ряд еще можно продолжать.
Разумеется, простое присутствие таких понятий в философском дискурсе ничуть не значит, что это — неэссенциалистский дискурс. Любое из них допускает включение, интеграцию в такой дискурс, т. е. эссенциалистскую интерпретацию: к примеру, движение, начиная с аристотелевой физики, типично и традиционно трактуется в энтелехийном смысле — как направляющееся к определенной завершенности, цели, телосу, продуцирующее актуализацию определенной сущности. Но в то же время, в силу не-эссенциалистской природы этих понятий, все они сами по себе, внутренне, отнюдь не связаны с эссенциализмом, допускают также и не-эссенциалистские трактовки и, в частности, если какое-либо из них будет избрано центральным понятием, положено в основу дискурса, — данный дискурс не будет носить эссенциалистского характера. Тем самым, возрастание философской роли и веса таких понятий заключает в себе тенденции к снижению жесткости, тотальности эссенциализма создает предпосылки к выходу за его пределы. И сравнительно с античной, в первую очередь, аристотелевской философией, метафизика христианской эпохи, в целом, как раз и демонстрирует подобное возрастание, весьма отчетливо выраженное в классической новоевропейской философии.
Полезно проследить вкратце, как и в силу каких факторов это происходит. При общей тенденции к сближению и воссоединению с античной мыслью, которой отмечен весь путь западноевропейской философии, начиная с ее отделения от патристики, в ней почти всюду сохранялось, однако, главное и коренное отличие, онтологическое. В противоположность греческой

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.
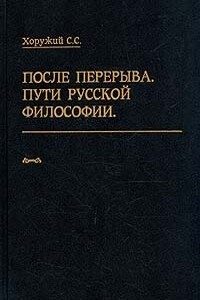
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".
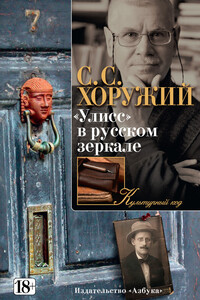
Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.