Риторика и истоки европейской литературной традиции [заметки]
1
Перевод выполнен по изданиям: Aristoteles 1877, 1959и 1976.
[1]
Эти анонимные глубины, как известно, весьма привлекали еще Гердера, посвятившего ветхозаветной поэтике немало глубокомысленных замечаний («О духе еврейской поэзии», тт. 1—2, 1782—1783). Великий культурфилософ предро-мантической эпохи недаром был современником Макферсона, к стилизациям которого проявил живой интерес («Избранные места из переписки об Оссиане и о песнях древних народов», 1773).
[2]
Вспомним заглавие назидательной аллегории Джона Беньяна «The Pilgrim’s Progress» (1678 г.), оно предполагает образ самого настоящего пути, по которому идут ногами.
[3]
В качестве методологической параллели можно упомянуть попытки распространения категорий «Возрождения» (или хотя бы «Предвозрождения») на весь цивилизованный мир. Попытки эти также представляются нам, по сути дела, обидными как для гуманизма итальянского типа, в предельном напряжении сил создавшего доселе небывалые нормы культуры, так и для народов, шедших иным путем и творивших в соответствии с иными нормами. Если, например, русский XV в. описывается как *Предвозрождение» (так сказать, «еще не совсем Возрождение»), позволительно спросить, что это значит? Разве не очевидно, что эта эпоха отнюдь не преддверие, не предвосхищение, а полное, исчерпывающее осуществление некоего культурного идеала, самозаконного, самоценного и весьма мало общего имеющего с Ренессансом? Критика европоцентризма, усматривающая везде и повсюду культуру, соответствующую специфически европейским идеалам и нормам культурного творчества, являет собою усложненную разновидность того же европоцентризма (это относится, например, к книге В. Чалояна «Восток и Запад» — Чалоян 1980).
[4]
Эта сторона античной классики очень энергично подчеркивается в работах А..Ф. Лосева.
[5]
В сочинении «О поэзии» Демокрит разработал столь популярное в дальнейшем учение о поэтическом «безумии», интеллектуалистико-психологически-ми средствами компенсировавшее утрату архаической бессознательности.
[6]
Frgm. В 16>а—25 Diels. Характерно, что гениальная инициатива Демокрита распространилась на самосознание культуры в целом, ему принадлежат трактаты по искусствознанию («О музыке», «О живописи»), а также — впервые! — размышления о генезисе цивилизации.
[7]
Ср. тот смысл, который вкладывал в это слово недавно умерший немецкий философ К. Ясперс, противопоставлявший свое принципиально незамкнутое «философствование» традиционной системосозидающей «философии».
[8]
Абсолют философской религии Платона называется «существенно-Сущее» (τό δντως öv); абсолют библейской веры называется «живой Бог» (1 hj). Переводчики, создавшие так называемую Септуагинту, на радость всем философствующим теологам средневековья передали знаменитое самоописание библейского бога « hh Sr lijh» (Исход, гл. 3, ст. 14) в терминах греческого онтологизма: εγώ είμί ό ών («Аз есмь Сущий»). Но древнееврейский глагол hjh означает не «быть», но «действенно присутствовать»; он характеризует не сущность, а существование (ср.: Ratschow 1941). И здесь дело идет о жизни, а не о бытии, о реальности, а не о сущности.
[9]
Может показаться, что эта характеристика плохо подходит к Гераклиту, но Эфесец занимает среди греческих мыслителей особое положение лишь постольку, поскольку дал права неподвижной сущности самому началу движения и усмотрел нечто неизменное в самой изменчивости. «Все течет» — эти слова не относятся к принципу течения: к Огню, к Логосу. Использование сквозного символа огня приближает Гераклита к Библии (ср. Второзак. 4, 24: «Йахве есть огнь поядающий»), но Огонь Гераклита подчинен объективной вещной закономерности, он, как известно, «мерою возгорается и мерою угасает», а значит, в самой своей динамичности и катастрофичности являет некую стабильность.
[10]
Вот характерный контраст. В «Книге Екклесиаста» всякой человеческой речи, а значит, и мысли изрекается такой закон: «Бог на небе, а ты на земле» (гл. 5, ст. 1). Греческий мыслитель, признавая для себя как для человека условия земного бытия, полностью отрицает их для своей отрешенной мысли:
Знаю, что смертен, что век мой недолог, и все же — когда я Сложный исследую ход круговращения звезд,
Мнится, земли не касаюсь ногами, но гостем у Зевса
В небе амвросией я, пищей бессмертных, кормлюсь.
(Клавдий Птолемей, пер. Л. В. Блуменау)
Иудей — «на земле», грек — «на небе». Это не противоположность между робостью верующего и дерзанием ученого, в библейской «Книге Иова» дерзание доходит до того, что самого Бога зовут на суд. Но Иов спорит с Богом «из глубины» (ср. Псал. 129, ст. 1) своей беды, своей конкретной жизненной ситуации, а не с бесстрастных высот интеллектуальной отрешенности и «внемйрности». Мечта Архимеда о точке опоры вне земли — это поразительно емкий символ греческой мысли; ближневосточной мысли такие искания были чужды.
[11]
В этом смысле очень типичная фигура — Лукиан из Самосаты, беллетрист, порожденный уже римской эпохой. В его сочинении «Сновидение, или Жизнь Лукиана» олицетворенная Образованность (Παιδεία), иначе говоря, Риторика, иначе говоря, Литература, обращает к подростку такие речи: «Ныне ты бедняк, сын такого-то, уже почти решившийся отдать себя столь низкому ремеслу, — а немного спустя ты сделаешься предметом всеобщей зависти и уважения; тебя будут чтить и хвалить, ты станешь знаменит среди лучших людей. Мужи, знатные родом или богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою — а была она роскошно одета)... Если даже ты уйдешь из этой жизни, то все же навсегда останешься среди образованных людей и будешь в общении с лучшими» (пер. Э. В. Диль, см. Лукиан 1962, с. 32—33). Это бесподобное в своем роде место (сопоставимое разве что с древнеегипетскими хвалами карьере писца, но совсем иное по своему содержанию) очень красочно показывает, как в соблазнах литераторской профессии переплетались приманки духовного свойства и обещания хорошего местечка под солнцем. Такие люди, как Лукиан, были обязаны своему литераторству решительно всем — и духовными, и материальными основами своего существования, своим человеческим лицом и общественным статусом. Понятно поэтому, что когда Лукиану приходилось сталкиваться с неблагоприятными отзывами касательно чистоты своего стиля, писатель приходил в такое неистовство, в какое его едва ли привела бы самая страшная клевета относительно чистоты его нравов. Дошло два его сочинения, связанных с подобными казусами. В памфлете «Лжец, или Что значит пагубный» он мстит дерзкому, осмелившемуся заподозрить его аттическую дикцию, полубредовыми обвинениями во всех возможных пороках, торопится морально изничтожить его, чтобы только отвести от себя страшное обвинение; в маленьком трактате под заглавием «В оправдание ошибки, допущенной при приветствии» он привлекает неимоверный аппарат учености, чтобы реабилитировать свое словоупотребление. Больнее задеть его просто невозможно. По-видимому, созревание «литераторского» социального самочувствия всегда сопровождается подобными эксцессами: достаточно вспомнить нравы итальянских гуманистов XV столетия или взаимоотношения Тредьяковского, Сумарокова и Ломоносова. Патологическая профессиональная обидчивость — оборотная сторона еще непривычной «беспочвенности».
[12]
Бродячему певцу у всякого народа полагается быть слепцом, и притом по весьма прозаической причине: зрячие годятся на другое дело. Но только грекам пришло в голову истолковать слепоту как еще один символ внутренней отрешенности. Неоплатоник Прокл пишет: «Гомер... возвысил свою мысль над мнимыми благами всяческой зримой гармонии <...> по каковой причине он и представлен в сказании утратившим очи и претерпевшим то самое, что он заставляет претерпеть феакийского певца Демодока:
[Муза его при рожденьи и злом и добром одарила;]
Очи затмила его, даровала за то сладкопенье.
В Демодоке Гомер представил парадигму собственной боговдохновенной жизни и потому говорит о нем, что тот лишен всяческой явленной гармонии и красоты через одержимость Музой» (In Platonis Rem. publ. ad. p. 398,1 174 Kroll). Оставляя на совести Прокла, автора очень позднего (V в. н.э.!), те обороты речи, которые характеризуют только традицию философского идеализма, нельзя не признать, что он точно выразил важную родовую черту греческого мировосприятия. Философская легенда греков дает яркий pendant к слепоте Гомера — самоослепление Демокрита, который якобы выжег себе глаза, чтобы преодолеть ложь общедоступной оче видности и выйти от зрения к умозрению (Plut. de curios. 12, p. 521 D; Aul. Gell. X, 17 и др.). Поэт и философ в идеале должны быть для грека слепы: слепец жизненно беспомощен, он выключен из жизни, но за счет этой своей внеситуатив-ности он достигает творческой свободы и видит невидимое. Библейскому мышлению этот идеал совершенно чужд.
[13]
Эту дистанцию почувствовал, но едва ли верно понял английский марксист Дж. Томсон, сопоставляющий Гесиода с его современником пророком Амосом: «Гесиод был мелким земледельцем, собственником, который убеждал работников продолжать трудиться, несмотря ни на что, и утешал их преданиями о золотом веке в далеком безвозвратном прошлом. Амос был пастухом, который говорил от лица тружеников, а не обращался к ним; он угрожал их угнетателям гневом Иеговы и обещал новый век изобилия в грядущие годы» (Томсон 1959, с. 93—95). Томсон несправедлив к беотийскому поэту, который в конце концов тоже грозит «царям дароядцам» гневом Зевса и дочери его Правды («Труды и дни», ст. 220—224, 248—265), хотя делает это с куда меньшей страстью и яростью, чем Амос. Прямолинейный социологизм Томсона «хромает» еще и потому, что социальное положение Амоса (как, впрочем, и Гесиода) отнюдь не может считаться окончательно выясненным: он называет себя bwqr, «коровьим пастухом» (гл. 7, ст. 14) и nqd «овечьим пастухом» (гл. 1, ст. 1) — но тот же термин nqd прилагает к себе и царь Моава Меша (II Кн. Царств, гл. 3, ст. 4), так что даже если не сопоставлять слово с загадочным титулом угаритского верховного жреца rb nqdm (как это сделано в: Murtonen 1952, р. 170; ср. критику в: Eissfeldt 1956, S. 483), вполне можно себе представить, что Амос до своего «призвания» был состоятельным скотоводом. Но в одном отношении Томсон прав: Амос говорит как человек из народа, Гесиод-говорит о народной жизни.
[14]
Как известно, Шпенглер настаивал на полном незнакомстве античности с феноменом «непризнанного гения» (Spengler 1920, S. 448—449). Но насилие фактов вынуждает Шпенглера отступать от собственной схемы и описывать ряд явлений греческой культуры начиная с IV в. до н.э. в терминах именно этого ряда.
[15]
Строго говоря, понятия «творчество» в новоевропейском смысле слова не знали и греки. Ποιέω значит «сделать», «построить», «сработать»; производное от этого глагола существительное ποιητής («поэт») буквально означает «выделыва-тель [стихов]» и весьма непатетично (на этом особенно настаивал Ф. Дорнзейф). Впрочем, не надо забывать, что именно греки в лице Демокрита (см. прим. 6) и Платона разработали учение о поэтическом экстазе, предопределившее новоевропейскую идею гениального творчества, которое преодолевает «правила» (ср. параграф 47 второй части кантовской «Критики способности суждения»). С другой стороны, если для греков не существовало нашего понятия «творчества», как послеренессансного перенесения на человека атрибутов бога-демиурга, творящего из ничего, — для них огромную роль играло понятие «изобретения», «измышления» (εΰρεσις). Пиндар говорит, что хочет быть «изобретателем слов» (Ol. 9, 80). Всякий реформатор того или иного жанра был с греческой точки зрения «изобретателем» новой жанровой формы: скажем, Эсхил «изобрел» новый тип трагедии. Часто утверждается, что греки не различали искусства и ремесла, объединяя то и другое в понятии τέχνη; это не совсем точно, ибо Плутарх (Vita Pericl. p. 159D) противопоставляет καλλιτεχνίχχ («изящное искусство», т. е. вдохновенное эстетическое творчество) и δημιουργία (ремесленную выработку, подчиненную закону обыденности). Это различие — одна из новаций греческого эстетизма.
[16]
Как известно, нумерация псалмов в православной и католической Библии, с одной стороны, и в масоретско-иудаистском, а также лютеранском каноне, с другой стороны, не совпадает. Впредь мы даем двойную нумерацию.
[17]
По-гречески «толпа» в уничижительном смысле обозначается словом όχλος. Еще более характерно греческое словечко βάναυσος (букв, «присущий ремесленнику», в бранном переосмыслении «пошлый», «вульгарный», «банальный», «бездуховный»). Позднеиудейское ругательство ’m h'rz, которым раввины талмудической эпохи клеймили непричастных священной учености невегласов, имеет совершенно иной привкус: раввины, как правило, по своему социальному статусу сами были ремесленниками (рабби Гиллель — дровосеком, рабби Шаммай — каменщиком, рав Йошуа — кузнецом и т. п.), а значит — βάναυσοι. В слове «банаусос» отложилось высокомерие «интеллектуала» и «свободного художника», в словосочетании «ам-хаарец» — высокомерие ученого «начетчика» и набожного «ревнителя».
[18]
Конечно, Демосфен тоже хотел быть немедленно услышанным; но от его ситуации нельзя отмыслить и сознательной работы над литературным шедевром, который останется, когда борьба отшумит. Демосфен и Эсхин в качестве государственных деятелей боролись не на жизнь, а на смерть; в качестве литераторов они в равной степени явили собой «классиков» своего жанра.
[19]
Как известно, латинское слово Individuum есть точный перевод греческого άτομος. Равный себе атом — единица, монада — есть для грека модель его «индивидуальности» (ср.: Лосев 1963, с. 450).
[20]
«То обстоятельство, что именно Книга Исайи столь богата вставками из различных эпох, доказывает, что книгу эту вновь и вновь брали в руки, и что эта царственная фигура между пророками была все же познана и признана в своем истинном значении»,— замечает А. Вайзер (Welser 1957, S. 159).
[21]
«От имени» (msm) — обычная формула ссылки на авторитет в талмудической литературе («Рабби NN говорил от имени рабби NN...»); ср. мышление, стоящее за практикой «хадисов» в исламе.
[22]
Ср.: Guthrie 1960, р. 118.
[23]
Мы употребляем термин «диалогической» в том расширительном и углубляющем смысле, который можно считать общепонятным после работы М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (Бахтин 1963).
[24]
Как известно, кантовское an sich восходит через посредство схоластического perse к аристотелевскому καθαυτό (ср.: Domseiff 1950, S. 28).
[25]
Вот несколько ранних случаев употребления этого термина: Democr. В 246 Diels; Plat. Phileb, p. 67 A; Arist. Eth. Nie. p. 1097 >B7.
[26]
Столь же неожиданно, сколь и логично, что для всей греческой философии в целом «сострадание» (έλεος) оказывается столь же предосудительным, как похоть, страх и т. п. (ср. упоминание этого чувства именно в таком ряду у Ямвлиха, De vita Pythagorica, с. 15, p. 64, 45 Nauck). Мудрецу приличествует отрешенное «человеколюбие» (φιλανθρωπία), снисходящая «благожелательность» (εύνοια), но никак не жалость, противоречащая интеллектуальной свободе и упраздняющая дистанцию между «я» и «не-я». Сострадание есть «страсть» (πάθος), т. е. непроизвольное страдательное состояние, когда не человек нечто делает, но с ним что-то делается под действием оклика извне; а страсть есть главный враг греческой философской этики. Напротив, ветхозаветному Богу свойственно не просто милосердие, но «чревная» материнская жалость по отношению к тем, кого он жалеет (rhmjm — мн. число от rhm). Наряду с этим ему весьма свойственны состояния «гнева» и «ревности», которые опять-таки предосудительны для греческой философской этики, ибо фиксируют внутриситуативную позицию гневающегося и ревнующего. Христианскому апологету Фирмиану Лактанцию придется писать особый трактат «О гневе Божием», защищая библейский образ Бога против философского презрения к гневу.
[27]
Что божество «сферовидно», утверждал еще Ксенофан (А 1. 28. 33. 35 Diels); Эмпедокл учил о «бескачественном Сферосе» (А 41 В 27, 4 Diels) как изначальном тождестве бога и мира. Сфера, согласно греческому пониманию, дает образ идеального самодовления, ибо включает в себя все существующие фигуры и ничего не оставляет рядом с собой (ср. Plat. Tim. p. 33 В).
[20]
Xenoph, В 26, I Diels. Что касается олимпийцев народной веры, мифа и поэзии, то они, разумеется, заинтересованы в жертвах и уважении смертных, в преуспеянии любимцев и в гибели обидчиков, но довольно поверхностно, почти «спортивно». «Так как весь промысел о чувственном... называется детской забавой богов, то мифотворцы и привыкли именовать эту особенность действования богов в мире смехом», — резюмирует стиль уходящего в прошлое мифа Прокл (In rem publ. 1, 126—128 Kroll). Конечно, всякий народ изначально предполагает заинтересованность бога в человеке и человека в боге по принципу do, ut des; важно, куда пойдет движение от этой исходной точки. Греческое божество по мере своего одухотворения в мысли философов становится все более безразличным к миру (предел этого развития — боги Эпикура); Йахве по мере своего одухотворения в мысли пророков становится все более заинтересованным в мире (предел этого развития — христианский догмат о боговоплощении).
[29]
Давно отмечено, что у Достоевского, глубинно диалогический характер творчества которого блестяще выяснен М. М. Бахтиным, принцип речевой характеристики постоянно нарушается, так что интонации персонажа проникают в голос автора и наоборот. «В смешении автора и авторского персонажа... не следует ли видеть отступление от реализма и художественности? Нет. В «Бедных людях» изображен разговор двух душ, а души могут говорить не временным своим языком, а преодолевать все преграды бытового косноязычия...» (Лихачев, 1967, с. 321—322).
[30]
Характерно, что уподобление места человека во вселенной маске и роли становится у стоиков избитым общим местом. Панеций учил, что каждый из людей носит четыре маски: маску человека, маску конкретной индивидуальности, маску общественного положения и маску профессии (ср.: Pohlenz 1948, S. 201). Когда Сенека хочет выразить идею душевной цельности, он говорит: «Великое дело — сыграть роль единообразного человека!» («Unum hominem agere» — ер. 120, 22).
[31]
Лихачев 1962, с. 64—66. Едва ли можно, однако, согласиться с вдумчивым исследователем, когда он характеризует подобную «психологию без характера» в терминах «егце-не», как если бы Епифанию или автору Русского Хронографа попросту не хватало знаний о человеческой сущности. Очевидно, что принцип историзма приказывает нам рассматривать поэтику древнерусской литературы в соответствии с ее целями, с ее мировоззренческими принципами. Христианский писатель средних веков хотел внушить своему христианскому читателю самое непосредственное ощущение личной сопричастности к мировому добру и личной совиновности в мировом зле: читатель должен был внутренне отождествить себя с праведником — в его доброй воле, а со злодеем — в его греховности, усматривая все ту же борьбу — Бога и Дьявола в описываемых событиях и в себе самом. Такой «сверхзадаче» объектно-созерцательная «психология характера» явно не соответствует. С другой стороны, ни из чего не следует, будто для нашего сознания — переставшего верить в непроницаемость и неразложимость каких бы то ни было «атомов» — «психология характера» абсолютно и безусловно права против «психологии без характера»; по-видимому, обе эти психологии соотносятся между собой примерно так, как геометрия Евклида и геометрия Лобачевского. Достаточно вспомнить стиль психологизма Достоевского, никоим образом не укладывающийся в каноны «психологии характера». Ср. нашу статью: Аверинцев 1970, с.113—143, особенно с. 130—132.
[32]
В древности физиогномика была наукой, и притом весьма почтенной и важной; к ней были прикосновенны такие умы, как Гиппократ и Аристотель, бесчисленное множество ученых меньшего ранга занимались ее систематизированием и усовершенствованием.
[33]
Ср.: Evans 1969.
[34]
Напротив, греческая литература начиная с Гомера берет олимпийцев как пластичные εϊδωλα с фиксированными приметами, как «маски», которые отличаются от человеческих «масок» лишь большей степенью статичности и самотожде-ственности. Из этих «масок» можно монтировать некий сборный облик героя:
...и меж них возвышался герой Агамемнон,
Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный,
Станом — Арею великому, персями — Энносигею...
(«Илиада», II, 477—479; пер. Н. И. Гнедича).
Совершенно так же на исходе античной культуры эпиграмматист Руфин (I в. н.э.?) будет собирать образ воспеваемой любовницы из «деталей», характеризующих «эйдос» («вид»), «этос» («нрав») и «биос» («образ жизни») отдельных божеств:
Ты обладаешь устами Пейфо, красотою Киприды,
Блещешь, как Горы весны, как Каллиопа, поешь,
Разум и нрав у тебя от Фемиды, а руки — Афины...
(Пер. Л. В. Блуменау)
Русского читателя такой подход к конструированию образа заставит, пожалуй, в озорную минуту вспомнить мечтания Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича...», — не так ли, в самом деле, Гомер приставляет голову Зевса к груди Посейдона? Но для Гомера, как и для Руфина, такая художественная практика абсолютно серьезна и органична, ибо укоренена в греческом понимании «характера», как статичной «маски»; и уж во всяком случае она предполагает общепонятную пластичную наглядность представлений о Зевсе и Посейдоне.
[35]
Напротив, египетские божества являют собою весьма пластичные и само-тождественные σχήματα «фигуры» (ср. употребление этого греческого слова, относящегося к тому же кругу понятий, что и χαρακτήρ или πρόσωπον, в знаменитом описании сакральной эстетики Египта у Платона, Legg. II, 656 D—675 В). Недаром Египет знал практику сакральных действ, на которых жрецы выступали в масках богов (см. Матъе 1956, с. 64—80). Однако египетские боги — не вполне χαρακτήρες в греческом смысле этого слова, и притом постольку, поскольку имеют свойство сливаться друг с другом, поглощая сущность друг друга (Амун-Ра, Хон-су-Ях, Тот-Ях, Осирис-Ях и т. п.): это свойство (порой присущее греческим богам в культе, но чуждое им в мифе, искусстве и литературе) понижает коэффициент пластичности.
[36]
В литературной ситуации нового времени аналогичный подход к построению образа оказывается ущербным (Пушкин в черновике письма к H. Н. Раевскому от конца июля 1825 г. с осуждением отмечает: «...создав в воображении какой-нибудь характер, писатель старается наложить отпечаток этого характера на все, что заставляет его говорить...»). Эта оценка ни в малейшей степени не может быть перенесена на «масочный» метод характеристики в античной литературе хотя бы потому, что там самые общие функции образа и характера были принципиально иными, чем в новоевропейской литературе: для нас фабульная ситуация помогает выявиться характеру, для греков характер служит для выявления сверхличной мифологической фабулы (μΰθος «Поэтики» Аристотеля). Вместилище подлинного смысла — не ήθος, а μΰθος (Arist. Poet, p. 1450 в, ср.: Лосев 1930, с. 719—720).
[37]
Принципиальное безразличие библейского образа к пластической офор-мленности точно уловил Т. Манн: «Безразлично, был ли Аврам высок и красив... или, может статься, низкоросл, тощ и согбен — в любом случае он обладал силой духа, всей силой духа, потребной, чтобы возвести всяческое многообразие божественного, и всякий гнев, и всякую милость к Нему, непосредственно к Нему, своему Богу» (Mann 1955, S. 426—427). Действительно, сколь ни редки в религиозном искусстве позднеантичного иудаизма фигуративные изображения, которые не являли бы в себе определяющего эллинистического влияния (как фрески синагоги в Дура-Европос), они ясно свидетельствуют, с какой легкостью иудей, еще связанный с древнепалестинской традицией, мог представить себе облик того же Авраама лишенным всякого внешнего достоинства. Такова относящаяся к VI в. н.э. мозаика синагоги в Бет-Альфа, изображающая Жертвоприношение Исаака (см.: Kitzinger 1965). Бесформенно выкручивающиеся и змеисто перевивающиеся руки патриарха гротескно выражают душевное борение, на запрокинутом красном губастом лице, к которому сбоку (!) приставлено семь полосок бороды, пронзительно светятся глаза — избыток экспрессии при полном равнодушии к пластике.
[38]
Ср. подобное словоупотребление у Дионисия Галикарнасского, Lys. II, 477, р. 204 Usen. et Raderm.
[39]
Men. Sent. 27, p. 34 Jaekel.
[40]
Demosth. 9, 981, p. 148>9—10 Usen. et Raderm.
[41]
Древний египтянин мог сказать о мудрецах былых времен: «Имена их живут из-за их книг, которые они написали, потому что они были благими, и память о том, кто их сделал, будет жить вечно». Однако и здесь речь идет о провербиальной жизни имени, а не о жизни авторского наследия в собственном смысле слова.
[42]
Ср.: Stemplinger, 1911.
[43]
Theogn. 19—23, p. 4, Diehl.
[44]
С парадоксальной защитой подлинности этой поэмы в свое время выступил Ф. Дорнзейф (DomseiW1939), но его точка зрения, понятным образом, не встретила поддержки.
[45]
Более любившие порядок египтяне употребляли стереотипные формулы зачина (например, в начале «Повести о двух братьях»). Но эти формулы ввиду своей краткости, примитивности, бессодержательности, а главное — безличности не могут быть сопоставлены с греческими «прооймионами». Некое подобие последних можно найти только в ближневосточном героическом эпосе (например, в первых строках поэмы о Гильгамеше).
[46]
Слово γένεσις соответствует еврейскому thol'döth («родословие», «рождение», «происхождение»), Genes. II, 4: «Вот родословие неба и земли...»
[47]
Ср. употребление слова γένεσις в прегнантном смысле «становление» в диалоге Платона «Тимей», трактующем, как и первая книга Пятикнижия, о сотворении мира. «Книга Бытия» — перевод, дающий обратный смысл; тема книги не статичное бытие, но динамичное становление, «генезис». Столь чуткий читатель, как О. Мандельштам, неспроста говорил об «огромной взрывчатой силе Книги Бытия — идее спонтанного генезиса» (Мандельштам 1967, с. 35).
[48]
Ср. замечание Аристотеля об «объеме» (μέγεθος) представляемого в трагедии действия, сделанное в столь ответственном месте, как знаменитая дефиниция трагедии (De art. poet., p. 1449>в).
[49]
Ср., например, наши подсчеты, относящиеся к биографиям Плутарха: Аверинцев 1966, с. 234—246. Подсчитано, что оба сочинения, приписываемые евангелисту Луке (третье Евангелие и Деяния апостолов) имеют почти совершенно равный объем (примерно по 90 400 греческих букв); это черта, связанная не с семитической, а с греческой литературной культурой, — так же как и авторский прооймион третьего Евангелия.
[50]
Вспомним, что наши «идея» и «теория» означают по-гречески «образ» и «рассматривание». Человек духа — для греков не деятель, но также и не аскет, удаляющийся от житейских торжищ: он — зритель, и мир для него — зрелище. На вопрос Леонта,— рассказывает греческая легенда, — кто же такие философы и что за разница между ними и прочими людьми, Пифагор ответил, что уподобляет жизнь человеческую всенародным сборищам во время великих греческих игр. На них одни телесными усилиями добиваются славы и победного венка, другие приезжают покупать, продавать и получать прибыль; и среди всего этого выделяется наиболее почтенный род посетителей, люди, не ищущие ни рукоплесканий, ни прибыли, но явившиеся для того, чтобы посмотреть, и прилежно разглядывающие все происходящее. Так-то и мы явились на сборище жизни из иной жизни и другого мира... и среди нас одни служат тщеславию, другие — деньгам; лишь немногие, презрев все остальное, прилежно всматриваются в природу вещей, и они-то зовутся любителями мудрости, или философами (пересказано у Цицерона, Tusc. disput. V, 3, 8—9). Бесполезно ли такое всматривание в мир? «Нет ничего странного, если оно покажется ненужным и неполезным, — невозмутимо возражает неоплатоник Ямвлих (III в. н. э.), — мы назовем его не пользою, но благом» (Protrept. 9, 60 А, 53 Pistelli). Как известно, и Пифагору, и Анаксагору приписывалось утверждение, что смысл всей человеческой жизни — в том, чтобы рассматривать небо. «Зрелищный» подход к миру — доминанта всей античной культуры и жизни сверху донизу, от адептов интеллектуального созерцания до римской черни, требовавшей «хлеба и зрелищ». Как известно, иудеи, узнав греческие зрелища, усмотрели в них предел скверны и безбожия.
[51]
Мандельштам 1967, с. 21.
[52]
Как характерен уже самый жанр поэтического или риторического описания картины или статуи! Ср. поучительную антологию русских переводов: Античные поэты об искусстве.
[53]
Зато христианская литература на греческой почве с необходимостью должна была испытать потребность в словесном портрете Христа; и в самом деле, в византийскую эпоху такие портреты (так сказать, литературные иконы) получают большую популярность. Некий Епифаний Монах в своем «Житии Богородицы» так описывал Иисуса: «...Он был весьма благообразен ликом... росту же имел шесть стоп полных, а волос русый и не слишком густой, скорее склонный чуть кудрявиться, а брови черные и не слишком выгнутые, глаза же карие и ясные... и волосы носил долгие, ибо никогда ни бритва, ни рука человеческая не прикасались к его главе, кроме руки матери его в бытность его младенцем. Шею он слегка наклонял, так что осанка тела его не была слишком прямой и вытянутой. Лик его был пшеничного Цвета и не круглый, но как и у его матери, продолговатый, чуть краснеющий и такой, что выражал святость, и разумность, и кротость...» В этой технике экфрасиса нельзя не узнать грека, воспитанного культурой физиогномики.
[54]
Ср.: Domseiff 1959, S. 189—202.
[55]
Вспомним, что греческое слово είδύλλιον, ставшее обозначением одного из характерных жанров античной поэзии, буквально означает «картинка».
[56]
Прогимнасматик Афтоний дает такую дефиницию экфрасиса: «Описательное слово, которое наглядно представляет перед глазами изъясняемое». Схолиаст прибавляет к этому: «Экфрасис отличается от повествования тем, что второе содержит голое изложение событий, между тем как первый тщится как бы превратить слушателей в зрителей» (см.: Emesti 1795, р. 100). Библейские описания могут превратить «слушателей» в соучастников, но уж никак не в «зрителей».
[57]
Ср. прим. 9 и 50.
[58]
Изначально слово κόσμος прилагалось либо к воинскому строю (мы можем вспомнить строку из Мандельштама: «...Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...»), либо к убранству, особенно женскому; оно было перенесено на мировую структуру Пифагором (по другим сообщениям — Парменидом). Идея передавать по-русски это слово трезвучием «ряд»-«наряд»-«порядок» принадлежит Т. В. Васильевой.
[59]
’wlm — это «мировое время» (в немецком переводе Бубера и Розенцвейга «Weltzeit»), но не «вечность», поскольку он, во-первых, движется и, во-вторых, может кончиться и смениться другим «оламом», другим состоянием времени и вещей в нем. Талмуд говорит об эсхатологическом wlm hb, что можно с равным правом переводить «будущий век» (ср. в христианском символе веры «...и жизни будущего века») и «будущий мир». Когда библейский мистический историзм попал в идейный кругозор греков и римлян, термин «олам» был передан греческим «эон» и латинским «секулум».
[60]
См.: Frend 1965, р. 39.
[61]
Ср. Plut. Alex. 2 (официальная легенда о зачатии от священного змея); 5 («Ахилл» — прозвище Александра в детстве); 38 (поджог дворца Ксеркса в стиле вакхической обрядности); 72 (стилизация богатырской тризны с человеческими жертвоприношениями на похоронах Гефестиона). О дионисичности самой фигуры Ахилла см.: Иванов 1923, с. 74 и сл.
[62]
Как известно, в 324 г. до н. э. была всенародно отпразднована небывалая свадьба: Александр и десять тысяч его солдат соединялись с персидскими девицами (Plut. Alex. 70). Эллинство — мужское начало, варварство — женское начало, и судьбы вселенной требуют их мистериального соития: такова символика, внятная еще для романиста Гелиодора (III или IV вв. н. э.).
[63]
«Дело выглядит так, как если бы возобновленный контакт с природой в диком краю Македонии и работа воображения над старой историей о чуде высвободила некий родник в уме престарелого поэта, восстанавливая связь с тайными источниками сил, которую он утратил в самоуверенной, не в меру интеллектуализо-ванной среде Афин конца V века», — замечает Э. Доддс (Dodds ed. 1960, p. XLVII).
[64]
В еврейских легендах Александр выступает как святой почитатель и защитник истинной веры, стоящий под защитой Йахве и пользующийся ревностной поддержкой иудеев. См.: Pfister 1956.
[65]
Plat. Tim. 22 А (эта речь саисского жреца к Солону будет почти назойливо цитироваться на исходе античности христианскими апологетами, подхватывающими призыв Платона вернуться к доэллинским истокам мыоли).
[66]
Jos. contra Ар., I, 22. Аргументы Т. Рейнака, предлагавшего отнести слова Хэрила к жителям Ликии (Rsinach 1895, р. 6, η. 1), трудно признать убедительными хотя бы потому, что они предполагают насилие над текстом — атетезу полустишия с упоминанием «финикийских словес».
[67]
Megasth. frgm 41 Didot (FHG II, 437).
[68]
Frgm 69 Müller (FHG II, 323).
[69]
Frgm. 151 Wimmer.
[70]
Frgm. 69 Müller. Датировка вытекает из того, что Клеарх говорит о пребывании Аристотеля «в Асии», т. е. у тирана Гермия Атарнейского. Возвращаясь к Феофрасту, заметим, что он знает еврейское слово qrbn (см. Jos. с. Ар., I, 22), что было бы едва ли возможно без личных контактов с иудеями.
[71]
Можно, конечно, заподозрить подлинность фрагментов Клеарха, хотя для этого нет достаточных оснований. Т. Рейнак (op. cit., р. 12, п. 1) поступает иначе: он признает подлинность текста, но сомневается в правдивости Клеарха. Его довод сводится к тому, что если по-настоящему воспринявший греческую культуру иудей трудно представим для эпохи Клеарха, то эта фигура вполне немыслима для тех лет, когда Аристотель гостил у Гермия Атарнейского. Но что мы знаем о просачивании эллинства через границу державы Артаксеркса около 347 г.? В сочинениях самого Аристотеля встречается довольно точное описание Мертвого Моря в Палестине (Meteor., II, 3, 39).
[72]
Clem. Alex., Sromat., I, 22, 150.
[73]
Porphyr., De phil. in orac. haur., I, 141.
[74]
Antiq. Rom., II, 50, 3.
[75]
Достаточно вспомнить, что греки ухитрились не заметить великую римскую литературу от Цицерона и Лукреция до Овидия и Тацита. Плутарх, из всех греческих писателей наиболее серьезно старавшийся проникнуть в римскую сущность, читал в подлиннике римских авторов для своих изысканий, но наотрез отказывался судить об их литературных достоинствах (ср.: PautysReal-Encyclopadie, XLI, S. 927).
[76]
Euseb. chron., 1, стр. 11.
[77]
Этот монарх осуществил намерение Александра восстановить храм Бела в Вавилоне, разрушенный Ксерксом, и поощрял культивирование клинописной литературы. См.: Тарн 1949, с. 132—133.
[78]
Заглавие Βαβυλωνιακά более достоверно, чем Χαλδαϊκά; см.: Schwartz 1959, S. 189.
[79]
Plat. Tim., 23 В.
[80]
Зелинский 1910, с. 256.
[81]
Об универсальном влиянии идей Беросса на сирийскую, греческую, иудейскую и христианскую историографию см.: Dempf 1964, S. 260.
[82]
Jos., contra. Ар., I, 14—15; ср. Euseb., preapar. evang., X, 13.
[83]
Frgm. 52 Müller, § 7. Старое предположение, согласно которому это место — интерполяция александрийского антисемита более поздней эпохи (см.: Reinach, op. cit., p. 29, п. 29), не имеет в свою пользу достаточных оснований. По-видимо-му, имя «Осарсиф» первоначально относилось к библейскому Иосифу, ибо представляет собой результат подстановки в имя «Ио-сиф» на место наименования «Иао» (т. е. «Йахве») египетского божественного имени «Осар»» (т. е. «Осирис»).
[84]
Египет первых Птолемеев — это не Вавилония первых Селевкидов. Вплоть до царствования Птолемея IV Трифона коренные жители Египта были столь бесправны, что не допускались к военной службе.
[85]
Согласно рассказу так называемого Аристеева письма, царский библиотекарь, знаменитый Деметрий Фалерский, внес меморандум, в котором указывал своему государю на недостачу в Александрийской библиотеке книг еврейского Писания и на их языковую недоступность (Epist. Arist. 28—33); после этого сам Птолемей Филадельф якобы обратился с запросом к иудейскому первосвященнику в Иерусалиме, результатом чего и было назначение коллегии переводчиков. Аристеево письмо заведомо представляет собой литературную стилизацию, которую приходится, однако, датировать эпохой эллинизма, хотя и не III в. (ср. предисловие и примечания в кн.: Aristeas to Philocrates). Хотя на показания этого псевдэпи-графа нельзя полагаться, благодаря им мы можем знать, как представляли себе историю Септуагинты александрийские евреи примерно через столетие или два после царствования Птолемея Филадельфа.
[86]
Ислам, являющий большое типологическое сходство с древним иудаизмом, чрезвычайно долго не мирился с переводом Корана на персидский или тюркские языки (ср.: Петрушевский 1966, с. 121). Достаточно вспомнить революционизирующее значение труда Лютера, переведшего Библию с сакральной латыни на мирской немецкий язык, чтобы представить себе, что в III в. до н.э. подобное событие должно было волновать умы во всяком случае не меньше, чем в XVI в. н.э.
[87]
Эта версия впервые излагается в Аристеевом письме и затем разукрашивается дальнейшими легендами у иудейских и затем христианских авторов, порой встречая и критику (например, у Иеронима, Praef. in Pent., Migne, Patrol. Lat. t. 28, col. 150). По одной еврейской версии переводчиков было пять. Число 72 (т. е. по шести человек от каждого из двенадцати колен Израилевых) было излюбленным числом в сфере еврейской религиозности; оно встречается и в Ветхом Завете (число мужей, отобранных для сакральных нужд Моисеем), и в Новом Завете (число учеников Христа). Латинское Septuaginta означает «семьдесят», т. е. округленную версию этого же числа.
[88]
О знаменитом Гиллеле (ум. ок. 10 г. н. э.), вдохновителе универсалистского направления в фарисействе, Талмуд рассказывает: «Гой пришел к Гиллелю; Гиллель обратил его в иудейскую веру. Он сказал ему: “Что ненавистно тебе самому, того не делай ближнему. Вот все учение Торы, все остальное — пояснение к этому. Ступай и выучи!”» (Sabbat 31 а).
[89]
У некоторых византийских авторов (например, у Евтихия Александрийского) встречается очень странная и тем более показательная легенда, согласно которой евангельский Симеон Богоприимец, которому было обещано, что он доживет до рождения Мессии-Христа, был одним из семидесяти толковников и прожил ни больше ни меньше, как три с половиной столетия; соавтор Септуагинты, который дожидается возникновения христианства, чтобы увидеть свои чаяния о «свете во откровение языков» исполнившимися, — выразительный символ. Уже для христиан новозаветной эпохи Септуагинта вполне заменяет древнееврейский текст Ветхого Завета; как известно, она до сих пор служит в греческой церкви каноническим текстом.
[90]
Soferim, 1, 7 (этот день — 8 Тебета). С другой стороны, однако, еще в Талмуде дозволяется читать священнейшую из иудейских молитв «Внемли, Израиль!..», заключающую исповедание монотеизма на всех языках, включая греческий (Sota, 33“; Megilla, 17 b).
[91]
Соболевский 1908.
[92]
В Египте не бывает «источников», упоминаемых в «Книге пророка Иоиля», гл. 1, ст. 20; в греческом тексте они заменены на αφέσεις ύδατων, т. е. каналы, отлично знакомые каждому египтянину, «Хранитель порога» из «Книги Эсфири» (гл. 2, ст. 21) заменен «архисоматофилаком» (официальный титул начальника гвардии при дворе Птолемеев).
[93]
Ср.: Norden 1913, S. 355—364.
[94]
«Для Филона греческий перевод Пятикнижия настолько представляет собою священный текст, что он черпает свою аргументацию из случайных особенностей этого текста» (Schürer 1909, S. 428). Ср.: Иваницкий 1911, с. 519.
[95]
Тацит, вообще тяготеющий к антисемитизму, характерным образом оценивает иудейскую обрядность — но не только обрядность — как эстетически низменную («sordidus» — Hist., V, 2); эта оценка произведена через сопоставление с ликующей праздничностью эллинского культа Диониса.
[96]
Med., V, 375—379: «В поздние времена придет век, когда оковы Океана будут расторгнуты и [за ним] обнаружится огромная земля; Тефис откроет новые миры, и Тулэ уже не будет пределом земель». Как известно, этот пассаж вдохновлял мореплавателей Столетия Открытий.
[97]
В эту эпоху греко-римское (особенно римское) общество оказывается, в частности, весьма доступным для иудейской пропаганды. Тот, кто читает диалог Горация и Аристия Фуска (Horat., Sermon., I, 9, 60—69), не может отделаться от впечатления, что хотя бы чрезвычайно поверхностный интерес к иудейской вере был в десятилетия ранней Империи модой, почти необходимой принадлежностью «лучших домов» Рима (ср. также светскую остроту из письма Августа, приведенную у Светония, Aug. 76). Безусловно, Дорнзейф сильно преувеличивает, изображая Горация и Вергилия знатоками Септуагинты, а специально Горация — сыном еврея или проселита (Domseiff 1951, S. 65 et passim), но его наблюдения над ролью ludaica в общей картине интересов высшего общества августовских времен не могут быть отброшены целиком (S. 67). Такое положение окончательно превращается в свою противоположность только к эпохе Антонинов: если для Горация поклонник еврейских обычаев — свой человек, предмет легкой, вполне дружеской иронии, то для Ювенала (Sat. XIV, 92—06) это враг общества, крамольник, изгой и отщепенец.
[98]
Вызревающий в I в. до н. э. аттикизм с его стремлением найти канон нормативных правил и авторитетных образцов есть именно классицизм, и Кеки-лий, с которым полемизирует Псевдо-Лонгин, стоит на вполне классицистических позициях. Как заметил однажды Виламовиц, «греческие классические поэты уже давно были классическими, когда Цицерон и Гораций ходили в школу»; а понятие «классики» (необходимо порождаемое в определенный момент всей греческой концепцией литературы, как мы ее пытались описать в первой части статьи) и феномен «классицизма» суть немыслимые друг без друга корреляты. Если после-ррмантический ценитель литературы, решительно отринув «классицизм», держится за идею «классики», это, очевидно, может означать одно из двух: либо идея «классики» в его уме гораздо менее насущна и непреложна, гораздо менее ясна и отчетлива, чем ему кажется, либо его разрыв с классицистической нормативностью гораздо менее глубок, чем ему кажется. Метаморфозы классицизма со времен Дионисия Галикарнасского сменились во множестве, и мы едва ли видели последнюю. Конец классицизма может совпасть только с окончательным преодолением греческой концепции «творчества»; возможно ли оно — решать не историкам литературы.
[99]
Как известно, не Псевдо-Лонгин ввел термин «возвышенное»; но в устах его антипода Кекилия этот термин явно обозначал иную категорию.
[100]
Sud. art. Καικίλιος. (Гипотеза эта была впервые выдвинута немецким филологом К. С. Шурцфлейшем в его комментарии на трактат «О возвышенном», вышедшем в Витемберге в 1711 г.)
[101]
Ср.: Norden 1955.
[102]
Настолько долговечным, что едва ли бесповоротно исчерпано и ныне. Мы остаемся европейцами и, следовательно, остаемся «греками»; обретенная нами способность в культурологической рефлексии дистанцироваться от себя, «взглянуть на себя со стороны», еще не означает, что мы и впрямь находимся «в стороне» от самих себя ero стоит утверждение, что Бог «устроил космос из бесформенной материи» (έξ άμύρφου ύλης), явно подходящее скорее к Демиургу Платонова «Тимея», чем к Элохим «Книги Бытия» («Книга Премудрости Соломоновой», гл. 11, ст. 18)! Очень большую роль в словаре этого сочинения играет также специальная терминология стоиков.
[104]
Душа мыслится существующей до своего воплощения: она «приходит» в тело, и только она есть «я» человека («Книга Премудрости Соломоновой», гл. 8, ст. 20), причем тело есть лишь «земляная хижина» для духа (гл. 9, ст. 15).
[105]
Огромное место в «Книге Премудрости Соломоновой» занимают призывы осознать неразумность идолослужения. Вся книга построена как увещательное слово правоверного царя Соломона к «судящим землю» (гл. 1, ст. 1), т. е. к своим языческим коллегам по сану.
[106]
Нельзя не посетовать на то, что слова «душевный», «духовный» и прочие решения этого ряда слишком патетичны и расплывчаты, слишком мало разграничены в своем значении, чтобы хорошо выполнять свои функции — разумеется, функции не терминов, но интеллектуальных символов (в немецком языке, вышколенном философской традицией, «Geist» и «Seele» противопоставляются куда более четко, так что формула Л. Клагеса «дух как противник души», которая могла бы, пожалуй, озадачить русского читателя, для немца абсолютно прозрачна и достаточно банальна; «vergeistigt» и «beseelt» по-немецки — антитезы, по-русски то и другое сливается в одном слове «одухотворенный»). Все же рискнем прибегнуть к этим словам, пытаясь прояснить их в самом процессе употребления. Стихия «души» в новоевропейской (особенно германской и славянской) поэзии есть то, что решительно мешает нам отождествить поэзию и риторику и даже побуждает мыслить их как вещи несовместные. Греки же их отождествляли (когда греческий философ — не поэт! — нападает на риторику, как это делает Платон в своем «Федре», он бранит ее отнюдь не за «рассудочность», мешающую душе, но за безрассудство, мешающее духу). Риторика есть попросту субстанция всей греческой поэзии в целом, не исключая предельных ее вершин. Когда мы непредвзято вчитываемся в греческих поэтов, мы поражаемся несравненному благородству их духовности, но испытываем почти физический голод по «душевности» — или, что бывает чаще всего, насильственно привносим ее в тексты. Но «сердечность» псалмов и «Книги Иова» (как известно, «сердце», упоминаемое в Ветхом Завете 851 раз, составляет один из важнейших его символов) также не следует смешивать с нашей «душевностью». Оселком и здесь может служить элоквенция, носящая в Библии особые черты, отличные от греческой риторики, но не менее «сухая» и «рассудочная». Как раз в «Книге Иова» отточенная притязательность словесной формы, остроумие, острословие, вкус к спору, состязанию и сарказму доходят до предела и празднуют доподлинный праздник. «Сердечности» это не мешает (как не мешает ей чистейшая риторика византийской церковной поэзии), но для «душевности» не оставляет места.
[107]
Предмет, обозначенный столь высокопарным выражением, — пастушеская палка.
[1]
Dempf 1964.
[2]
Формула, употребляемая по-еврейски в традиционных надписаниях этих семидесяти трех псалмов, гласит: l'dawid. Это может означать:
а) «Давида»;
б) «Давиду», «Для Давида»;
в) «О Давиде» (последнее значение вытекает из угаритских параллелей).
Применительно к псалмам подзаголовок «О Давиде» может иметь смысл:
«от лица Давида», «в применении к событиям жизни Давида» (в 13 случаях «над-писания» псалмов прямо называют эти события, всякий раз в полном согласии с биографией Давида, как она изложена в текстах, обозначаемых согласно православной традиции как I—II Книги Царств, а согласно еврейско-масоретской и западной традиции — как I—II Книги Самуиловы); в таком случае почитаемая персона царя Давида служит обличием для скорбей и надежд коллективного «я», осуществляющего себя в сакральном действе псалмопения.
[3]
Пастернак 1991, с. 219.
[4]
Именно у Девтероисайи возникает столь важная для новозаветной пер-зпективы тема страждущего «отрока Господня» (42, 1 — 7; 52, 13—15; 53, 1—12).
[5]
Sellin — Fohrer 1969, S. 397—409.
[6]
Ср.: Коростовцев 1983, с. 62—64.
[7]
Принципиально важен именно момент рефлексии. Сам по себе феномен индивидуальной манеры позволительно искать в самом что ни на есть архаическом или фольклорном примитиве; позволительно утверждать также, что любители словесного искусства эту манеру более или менее чувствуют — иначе они не оказывали бы предпочтения одному мастеру этого искусства перед другим. Все это, ненаучно выражаясь, старо как мир. Но вот момент, когда у какой-то группы людей появляется охота по каким-то правилам обсуждать разницу между одной и другой манерой и создавать для этого общезначимый набор понятий, — это момент переломный; есть великие культуры, которые проходят свой путь, так этого момента и не переживая. ‘
[8]
Нам приходилось не раз говорить о понятии подражания-состязания (ζήλωσις- aemulatio), ключевом для всей поры рефлективного традиционализма, но дополнительно важном для римской культуры. Ср., например: наст, изд., с. 146—157, особенно с. 148; Аверинцев 1989, с. 5—21, особенно с. 9—11.
[9]
Поучительный, красноречивый контраст — обсуждение (не вполне точной) цитаты из Книги Бытия, 1, 3 и 1, 9 в трактате «О возвышенном», 9, 9. В конто веки несколько слов библейского текста попали в поле зрения греческого автора — и они немедленно стали предметом теоретико-литературной рефлексии.
[10]
Современный анализ данных о раввинской дидактике первой пол. I в. н.э. заставляет еще выше оценивать новизну параболического стиля Иисуса; самые ранние жанровые аналогии связаны с именами раввинов, живших несколькими поколениями позже.
[11]
Это можно сравнить с отсутствием в Евангелиях описания внешности Иисуса, контрастирующим с приверженностью к этой теме многочисленных византийских апокрифов, но обретающимся в добром согласии с ветхозаветной традицией. Во всем Ветхом Завете мы находим лишь крайне односложную характеристику внешности молодого Саула (I Кн. Царств 9, 2 — «красивый») и чуть более развернутую справку о внешности молодого Давида (там же, 16, 12 — «белокур, с красивыми глазами и приятным лицом»); но и это — исключения. Библейский стиль не любит описания, «экфрасиса» — безразлично, описания внешности или описания характерной манеры говорить. Описание предполагает взгляд извне, оценивающий — даже при установке на похвалу, на восхищение, даже на умиление; в терминах философии М. Бубера кто-нибудь мог бы сказать, что описываемое бытие — «оно», не «я и ты». Ср. нашу давнюю попытку в несколько неакадемической манере рассуждать на эти темы: наст, изд., с. 13—75, специально с. 31—36.
[12]
Патриарх Фотий в IX в. разбирал и стиль апостола Павла (Amphilochia XCI—XCIII), и лексику I послания апостола Петра (Amphilochia LXXXVI) в категориях риторической теории. Это — не изолированный пример; ср.: наст, изд., с. 247—248.
[13]
Единственное исключение — определение того, что есть вера, в Послании к евреям, памятнике, выделяющемся, как отмечал еще Эдуард Норден, нормативно-эллинистическим характером своей стилистики: «Вера есть осуществление чаемого и уверенность в невидимом» (II, I). Ср.: наст, изд., с. 236.
[14]
Когда такие характеристики все же появляются, происходит это на периферии повествования. Евангелие от Луки — опять-таки самое эллинистическое из четырех Евангелий — дает энкомиастическую характеристику родителей Иоанна Крестителя (1, 6); но аналогичной характеристики их сына — не говоря уже об Иисусе Христе — мы не можем вообразить даже в нем. Оценочные эпитеты типа «нечестивый», «богоненавистный» и т. п., требуемые в житиях для антагонистов святого литературным этикетом, в Евангелиях также немыслимы.
[15]
Например, ни слова не сказано о психологии поступка Иуды Искариота; загадка остается важным компонентом христианской культуры именно в своем качестве загадки.
[16]
Очень яркий пример — восходящие к первой пол. II в. замечания Папия Иерапольского (о неточной хронологии Марка, восходящей, по Папию, к практике изустных рассказов для нужд повседневного назидания, также, насколько можно понять, о противоречивой истории становления греческой версии Матфея на основе семитического источника), которые приведены в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (III, 39).
[17]
Достаточно вспомнить начальные слова Евангелия от Марка, которые отражают раннее словоупотребление, хорошо известное из текстов Павловых посланий.
[18]
Этот отход ощутим уже в труде Августина «О согласии евангелистов» (ок. 400 г.).
[19]
В качестве одного из бесчисленных примеров можно упомянуть универсальное значение для средневековой культуры на Востоке и на Западе — текстов, поставленных под защиту имени Дионисия Ареопагита, ученика ап. Павла (ср. Деян. ап. 17, 34).
[20]
Характерна ссылка на Второзак. 31, 9.
[21]
Ср. Деян. ап. 4, 12: «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись».
[22]
В наше время, обсуждая литературную жизнь античности (а также средневековья и даже раннего нового времени), анализируя и тем паче популяризируя, как правило, акцентируют внимание на том, что отличает «их» от «нас», — в частности, на неразвитости, неотчетливости, нестеснительности «их» понятий о литературной собственности по сравнению с «нашими». Несомненно, открытие Гуттенберга и затем капиталистическая формализация «авторского права» вплоть до современного «копирайта» качественно изменили отнюдь не только юридический аспект ситуации, но всю ситуацию в целом. И все же мы обязаны видеть античность не только и не столько в контрасте с тем, что пришло много позже, сколько на фоне того, что античности предшествовало и что с ней во времени соседствовало. Уже многочисленные среди античных знатоков споры о том, что автору принадлежало и что ему не принадлежало, свидетельствуют не только о запутанности, но и о насущности, серьезности, остроте вопроса литературной собственности. О том же говорят характерные для греческой архаики попытки метить тексты той или иной словесной «печатью» (см. ниже второй раздел статьи).
[23]
После изобретения книгопечатания и других событий Нового времени рецидивы «этиологического» подхода как сколько-нибудь массовое явление нормально ограничены зоной «непечатного», «нецензурного». Сюда же относится квазифольклор городской среды и особенно образованных слоев — остроты и анекдоты; хорошо известна их «циклизация» вокруг имени того или иного локального остроумца (например, вокруг имени Радека, — причем, после гибели последнего и табуирования его имени, оно могло замещаться другим, но тоже начальственным, вообще, того же «порядка»). Исключительно энергичную реставрацию архаических моделей — «самодревнейшего, давно изъятого из обихода», как говорил черт Адриану Леверкюну, — ив этом пункте, как во многих других, осуществлял зрелый тоталитаризм. Ему удалось, в частности, психологически восстановить столь странную для нас парадигму авторитета, служащего для текста и героем, и предполагаемым демиургом. В сущности, так уже было с «Кратким курсом истории ВКП(б)», являвшим собой и эпос о Сталине, и творение Сталина, а потому «принадлежавшим» ему во всех смыслах сразу (точнее, в едином синкретическом смысле). Но еще острее и постольку еще симптоматичнее было положение с биографией Сталина, красной книжечкой, имевшей под конец сталинской поры статус весьма важный. Неприлично (и преступно) было так прямо и предположить, что Сталин сам и писал свою биографию; но еще неприличнее (и преступнее) казалось в те времена — поставить вопрос о каком-то ином, т. е. более или менее «профаническом» авторе текста столь сакрального. Так пародировалась ветхозаветная модель: авторство сызнова исчезало и стушевывалось перед авторитетом, сызнова в нем растворялось, нисходило в его первобытную бездну.
[24]
Настроение тысячелетней эпохи суммировал в начале ее заката Дион Хри-состом: «Началом, срединой и завершением всего является Гомер, — и мальчику, и мужу, и старцу он дает то, что каждый в силах взять у него» (речь XVIII, 8, пер. М. Е. Грабарь-Пассек). Риторы не уставали цитировать Гомера как источник непогрешимо практичных советов на все случаи жизни; стоики при помощи аллего-резы извлекали из него один натурфилософский тезис за другим.
[25]
Эллинистическая наука создала два характерных амплуа: «энстатиков», искавших у Гомера несообразностей, и «литиков», «разрешавших» недоумения.
[26]
В общей сложности сохранилось семь жизнеописаний Гомера, не считая повествования о состязании Гомера и Гесиода. Все они в том виде, в котором дошли до нас, принадлежат поре Римской империи, что, разумеется, отнюдь не исключает использования более старых преданий.
[27]
В самом центре аристотелевской характеристики Гомера как идеального представителя эпического жанра стоит противопоставление его поэм — прежде всего «Илиады» — самому принципу «киклической» циклизации, т. е. тривиальной установке на внешнюю исчерпанность того или иного блока сюжетов: «Отто-го-то Гомер <...> и здесь богоподобен по сравнению с другими: он не взялся сочинять про всю войну, хоть она имела и начало и конец (ибо слишком она была бы велика и неудобообозрима, а в умеренном объеме — слишком пестра и потому запутанна), — нет, он взял одну лишь ее часть, а многими остальными воспользовался как вставками для перебивки произведения (например, перечнем кораблей, а также другими вставками). Остальные эпические поэты сочиняют об одном герое, об одном времени, а если об одном действии, то о многосоставном, как, например, сочинитель «Киприй» и «Малой Илиады» («Поэтика» 1459а30—37, пер. М. JI. Гаспарова).
[28]
Ср.: Зайцев 1985.
[29]
Fr. 21 (29) [Diehl] (πολλά ψεύδονται άοιδοι); часто цитируется у античных авторов, приводится как пословица.
[30]
Например, Ps.-Plat. de iusto 374а.
[31]
Epist. 146 (258, 3 G). Обзор истории этой топики см.: Toss/ 1992, р. 90—91.
[32]
Ale. fr. 428 L.-P.; Anacr. fr. 51 D.
[33]
Cp. Plut. de aud. poet. 12, 33A—В; Aelian. var. hist. X, 13.
[34]
См. Зайцев 1985, с. 137—138.
[35]
Anthol. Palat., IX, 359.
[36]
Об этом казусе и порождаемых им проблемах нам приходилось писать (наст, изд., с. 00—00 и специально с. 00—00). Довольно часто в Палатинской антологии авторство эпиграммы указывается как «неясное» (άδηλον), но это происходит со сравнительно неприметными образцами жанра; более приметные получают атрибуцию, подчас — как в этом случае — откровенно условную.
[1]
Само понятие «гения» стало общим достоянием культурной Европы в пору предромантизма, руссоизма, «бури и натиска» как боевой клич борьбы против школьных правил, за высвобождение творческой субъективности. Оно распространялось вместе с неподстриженными «английскими» садами из Великобритании («Опыт о гении» А. Джерарда 1774 г., повлиявший на немецких мыслителей и поэтов конца XVIII в.). По Канту, гений есть «образцовая оригинальность природного дарования субъекта в свободном употреблении своих познавательных сил» («Критика способности суждения», § 49), инстанция, через которую «природа дает правила искусству» (там же, § 46). Категория «гения» столь же необходима с этого времени, сколь непонятной и ненужной была до того, если, конечно, мы будем понимать это слово во всем богатстве его исторически сложившихся смысловых моментов, а не просто как «очень большое дарование»; последнее было предметом мысли с давних пор.
[2]
Особая роль жанра в эстетике классицизма и классицизма в истории жанра отмечается во всех справочных изданиях и общих курсах. Сошлемся на статьи «Жанр» в КЛЭ (М., 1964, т. 2, стб. 914 и др.) и БСЭ (М., 1972, т. 9, с. 121). Хотя традиционная система жанров в наиболее общих своих основаниях возникла еще в классической древности, именно в классицизме она приобрела свою окончательную форму как классификация литературных «родов» и «видов».
[3]
Лихачев 1958, 1962, 1965, 1967, 1973 и др.
[4]
Рифтин 1979.
[5]
Куделин 1983.
[6]
В этом отношении знамением времени был коллективный труд: Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
[7]
Ср.: Лосев 1964, 1973.
[8]
Ср.: Hunger 1978, Bd. 2, S. 91—93. Эпиграммы, написанные иными размерами, например сплошными пентаметрами, являли собой просто раритеты и соответственно воспринимались.
[9]
Как известно, в силу изменений, произошедших в греческом языке, для византийского уха звучала только силлабическая или силлабо-тоническая поэзия; но византийская риторическая теория признавала только старую квантитативную метрику, обращавшуюся только к глазу и рассудку читателя. Поэтому теория игнорировала грандиозный феномен византийской гимнографии, поскольку Роман Сладкопевец и его последователи, отступив от мертвых метрических правил, творили нечто, не укладывавшееся ни в представления о стихе, ни в представления о прозе, — нечто несуществующее, нелитературу.
[10]
См. наст, изд., с. 146—157.
[11]
Однажды я предложил называть предлитературу старым словом «словесность», резервировав термин «литература» для явления, достигшего автономии (см. наст, изд., с. 13—75). Разумеется, стоять за само это слово у меня нет никакого желания; но слишком безразличное, слишком невозмутимое пользование словом «литература» имеет свои неудобства. Ведь мы не называем архаические формы житейской или сакральной мудрости «философией» — и правильно делаем.
[12]
Пользование гегелевскими терминами имеет два основания: во-первых, терминам этим нельзя отказать в четкости, во-вторых, они достаточно популярны, чтобы быть общепонятными. Во избежание недоразумений отметим, что позволили себе применить несколько терминов, не обязывая себя к специфически «гегельянскому» образу мысли.
[13]
См.: Аверинцев, Роднянская 1978.
[14]
Ranae, 142.
[15]
Наст, изд., с. 150; Awerintzew 1979, S. 267—270.
[16]
См.: Аверинцев 1979, с. 41—81.
[17]
Аристотель. Поэтика, гл. 13; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 130—131).
[18]
Там же, с. 131.
[19]
Там же, с. 132.
[20]
Ср. наст, изд., с. 27—31.
[21]
Ср. наст, изд., с. 148.
[22]
«Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» (Аристотель 1976, с. 273).
[1]
Уже у Аристотеля (De sophist, elenchis I, 165a, 21) «софистика» (σοφιστική) определяется как «мнимая мудрость» (φαινομένη σοφία). Однозначно одиозна дефиниция «софиста» в конце диалога Платона «Софист». Параллельно с этим, однако, греческий язык удерживает вплоть до времен патристики пользование словами этого лексического гнезда без всякого негативного смысла. Лишь в новоевропейском философском языке платоновско-аристотелевское словоупотребление торжествует безраздельно.
[2]
Разумеется, средневековый рационализм был фидеистическим; немаловажно, однако, что термин «схоластика» само по себе акцентирует не момент фидеизма, а момент рационализма. Католический лексикон XVIII в., суммирующий гораздо более раннюю традицию, дает термину «scholastica theologia» такую дефиницию: «...тот род теологии, который при рассмотрении своих вопросов больше всего прибегает к разуму и к аргументам» (Dictionanum theologicum, p. 199). Интересно, что у античных авторов «схоластический» чаще всего употребляется как синоним слова «риторический» (например: A. Gell., XV, 1: «scholasticaedeclamationes»; Quintil., VII, 1). Риторика ведь тоже — школьная: общий момент, соединяющий античное и католическое словоупотребление, — формализованность преподаваемого знания в системе правил.
[3]
«В речах его нет души, это одно лишь заученное риторство» (Даль 1911 — 1912, т. 3, стб. 1688); «Схоластика, философия внешности, основанная на логике или на диалектике; вообще, школярство, школярное направленье, сухое, тупое, безжизненное» (там же, т. 4, стб. 663).
[4]
«Риторика <...> Напыщенная речь, в которой красивые фразы и слова скрывают ее бессодержательность (книжн. неодобрит.)» (ТСРЯ, т. 3, стб. 1362— 1363); «Схоластика <...> Знание, оторванное от жизни и практики, основывающееся на формальных рассуждениях без проверки их на опыте, бесплодное умствование, начетничество, буквоедство (книжн.)» (там же, т. 4, стб. 612).
[5]
В поэтическом манифесте Верлена «L’artpoetique» описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «А все остальное — литература» («Et tout la reste est littörature»). Характерно, что выпад против «литературы» следует сейчас же за призывом «свернуть шею красноречию»: компрометация «литературы» непосредственно продолжает компрометацию «риторики».
[6]
В пределах отечественной литературы с максимальной резкостью — в «Четвертой прозе» О. Мандельштама.
[7]
Гершензон, Иванов 1921, с. 112. Разумеется, для обоих корреспондентов слово «интеллигент» имеет идеологические коннотации, никак не позволяющие свести его смысл к обозначению рода профессиональных занятий. Гершензон был одним из участников «Вех», которые недаром имеют подзаголовок: «Сборник статей о русской интеллигенции». Уже на первой странице сборника читателю бросаются в глаза слова Н. А. Бердяева: «Говорю об интеллигенции в традиционнорусском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью <...> не без основания называют «интеллигентщиной» в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом значении этого слова». Упомянутое Бердяевым словечко в наше время вышло из обихода, но на смену ему пришли другие; выполнявшаяся им семантическая функция остается.
[8]
Оппозиция «разум — рассудок» восходит к античной оппозиции νοΰς διάνοια, не имевшей, однако, такой оценочной окраски; в новоевропейской философии оценочность заметно возрастает от Канта к Фихте, Шеллингу и Гегелю. Романтизм и неоромантизм в философии противопоставляют рассудку «созидающее созерцание» (Шеллинг), интуицию (Бергсон), как творческое — нетворческому.
[9]
Приводимая Далем русская пословица: «Ума много, а рассудка нет» — как будто ставит конструктивность «рассудка» выше нетрезвой активности «ума»; соотношение «ума» и «разума» в русском языке неясно и возбуждало полемику еще в XVIII в. (Поскольку «ум» в старославянских переводах с греческого передает термин νοΰς, «разум», очевидно, представляет собой словообразовательную кальку термина διάνοια, что, впрочем, не мешало ему идти в ход для передачи слова γνώσις, как в Рождественском тропаре: «...возсия мирови свет разума»; так или иначе, однако, этимология предрасполагала слово «разум» к выполнению функций термина «рассудок», чего отнюдь не произошло.) Характерно, что если ratio — «рассудок», то варианты того же латинского термина в романских языках, например фр. raison, обычно передаются по-русски как «разум».
Сюда же: когда научность хотят похвалить, ее называют научностью; когда ее же хотят выбранить, ее называют «сциентизмом» или «позитивизмом» с прилагательным «бескрылый» или без него. Конечно, «сциентизм» — обозначение идеологического направления, а «позитивизм» — обозначение философского направления; но каждый знает, что оба термина весьма нетерминологически употребляются примерно как синонимы словосочетания из стихов Андрея Белого: «математическая сушь».
[10]
Domseiff 1970, S. 12—13. Продолжая аналогию, заметим, что было бы наивно объяснять этот процесс однозначно антиклерикальными или однозначно женоненавистническими настроениями; так же точно, если люди превращают слово «риторика» в ругательство, это не значит, что они не имели никакого вкуса к блеску реальной риторики. Гюго провозгласил: «Смерть риторике!» — что не мешало ему быть писателем чрезвычайно «риторичным» в самом расхожем значении этого слова.
[11]
Это не просто «глас народа» хотя бы потому, что за компрометацией конкретных терминов обычно стоит умственное движение, вызванное конкретными властителями дум. Платон вел целенаправленную пропаганду против софистики, гуманисты Ренессанса и позднее энциклопедисты — против схоластики, теоретики романтизма — против риторики. С другой стороны, однако, пропаганда не имела бы такого — хотя бы на поверхности — сокрушительного успеха, если бы не апеллировала к чему-то очень «общечеловеческому».
[12]
Ср.: наст, изд., с. 230—232.
[13]
Ср.: Аверинцев 1979, с. 41—81, особенно с. 65—67.
[14]
Витгенштейн 1958, с. 44 (§ 4.0031).
[15]
Аверинцев 1979, с. 66.
[16]
В этом смысле греки были совершенно логичны, когда при всем мечтательном преклонении перед восточной «мудростью» (о том, как велик был здесь удельный вес фантазии и насколько скуден конкретный интерес, хорошо сказано в остроумной книге: Momigliano 1975) фактически исходили из того, что не только философия, «самое имя которой чуждо варварской речи» (Diog. Laert. I, 4; пер. М. JI. Гаспарова), но и художественная литература имеется только у них самих во всей вселенной. Когда негреки воспринимали стандарты греческого рационализма, они становились греческими писателями и философами — как карфагенянин Гасдрубал, возглавивший Академию в Афинах под именем Клитомаха в 127 г. до н.э., или как сириец Лукиан из Самосаты; и даже римляне, создавшие культуру греческого типа на своем языке, должны были отнестись к автохтонной традиции как к нулевой точке.
[17]
В сущности, уже систематизация мифа, приведение его в стройный, связный, непротиворечивый порядок, начиная с «Теогонии» Гесиода, представляет собой шаг в сторону рационализма. Чистый миф не знает такого стремления к связности, и отнюдь не потому, что в нем отражено какое-то особое прелогическое мышление, а просто потому, что он функционален, рассказывается «к случаю», ♦кслову», совершенно естественно допуская противоречивые версии (ср.: Kirk 1970, 1974). Когда мы, вместо того чтобы говорить о мифе, говорим о мифологии, тем паче о «мифологической системе», о мифологическом «образе мира», «образе универсума», мы непроизвольно вносим в миф тот самый принцип системности, который нащупан лишь на подступе к рационализму и победоносно утвержден — не без насильственности — рационализмом.
[18]
См.: наст, изд., с. 146—157, особенно с. 152—153.
[19]
На это ориентирован уже средневековый письмовник Адальберта Самари-тана: «Если младший пишет старшему, персона старшего упоминается первой, за ней следует персона младшего. Если старший — младшему, его персона всегда идет первой. Если равный — равному, любая персона может быть названа первой или второй по произволу пишущего. Образ приветствия также зависит от качества персоны и обозначает ее ранг; иначе приветствуем вышестоящего, иначе — нижестоящего, иначе — равного... Когда младший пишет старшему, избираем высокий стиль по двум причинам: или потому, что письмо восходит от низшего к высшему, или потому, что оно содержит в себе три акциденции: ласкательство в начале, причину ласкательства в середине, прошение в конце...» (I, 2). Сравнительно с этими скудными и примитивными, но в высшей степени практическими указаниями письмовники Деметрия или Псевдо-Либания — разгул самоцельного теоретизирования, опыты по феноменологии человеческого поведения, сопоставимые с «Характерами» Феофраста. Новейшие письмовники, вплоть до нашего столетия (например: Chauffurin 1932), остаются верны подходу Адальберта: на с. 13—
19 упомянутого издания указываются формулы обращения «от равного к равному», «к низшему», «к высшему», «к папе», «к кардиналу», «к епископу», «к коронованному лицу», «к президенту Республика», «к послу», «к министру», «к сенатору или депутату», к функционерам различных рангов, к офицерам армии и — отдельно! — военно-морского флота, «от женщины к мужчине», «от мужчины к женщине», «от женщины к женщине» — сугубо практические социальные конвенции.
[20]
См.: Weicherted. 1910.
[21]
Ср.: Аверинцев 1975, с. 371—397; Гайденко 1988, с. 284—307. Античная онтология как бы патриархальна: в ней само собой разумеется, что причина «благороднее» следствия, имеет перед ним преимущество почета, как родители имеют преимущество почета перед своими детьми. В старых католических учебниках морального богословия обязанность детей почитать родителей обосновывается не только от Библии — ссылкой на заповедь Декалога, но и от Аристотеля — указанием на то, что родители суть «содетельные причины» (causae efficientes) бытия своих детей. Это очень устойчивый мотив.
[22]
Xenophan., frgm. 24 Diels.
[23]
Empedod., frgm. 27 Diels.
[24]
Прежде всего в статье «Эпос и роман. О методологии исследования романа» (Бахтин 1975, с. 447—484).
[25]
Ср. наст, изд., с. 146—157, особенно с. 153—154.
[26]
Существует некоторое количество вненаучных факторов, препятствующих увидеть проблему с достаточной ясностью. Сюда относится, в частности, привычка к едва ли не «архетипической» дихотомии типа «они и мы», «древние и новые» (ср. «Спор древних и новых» во Франции XVII в.), «традиция и прогресс», «миф и наука»; склонность исторического мышления с большей познавательной симпатией относиться к простому отсутствию историзма в сознании, к «вневременной» наивности мифа и эпоса (по типу антитез Шиллера в его трактате «0 наивной и сентиментальной поэзии» — «мы свободны, они необходимы; мы изменяемся, они пребывают»), чем к разновидностям историзма, отличным от историзма нового и новейшего времени (ср. наши замечания о мотивах, побудивших Гёте предпочесть простоватого Лонга гениальному Вергилию: Awerintzew 1986, S. 39—45); реликты эволюционизма, интерпретирующего духовную историю человечества как поступательное убывание субстанции мифа и столь же поступательное увеличение массы субстанции науки. Ко всему этому в наше время прибавляется присущая только XX в. степень идеализации архаики, влечения к наипримитивнейшему, дополняющего сциентистско-технократическую практику; бес у Т. Манна знает, что делает, когда обещает Адриану Леверкюну: «Мы предлагаем большее, мы предлагаем как раз истинное и неподдельное — это тебе, милый мой, уже не классика, это архаика, самодревнейшее, давно изъятое из обихода» (Манн 1959, с. 288). Мечта XX в., выразившаяся, например, в поэзии В. Хлебникова, — это брачное соединение суперпримитива и супермодерна, доисторического и послеисторического: серединная зона классики, истории, а значит, аристотелевского рационализма в мышлении и творчестве при такой психологической установке непроизвольно исчезает. Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным, т. е. архаику и «авангард»; похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях.
[27]
Metaphys., XI, 1, 1059b.
[28]
Михайлов 1988, с. 310. То обстоятельство, что А. В. Михайлов называет культуру рефлективного традиционализма «мифориторической» (там же), нисколько не противоречит разграничению, которое проводим мы между этс^й культурой и архаическим мифом; Михайлов специально оговаривается, что имеет в виду не «миф» мифологии «как знания и науки», но именно то, что сам обозначает как «готовое слово». Отмеченное М. JI. Гаспаровым для понимания «Поэтики» Аристотеля значение слова «миф» как фабула — это, по Михайлову, «лишь одно из тех взаимосвязанных значений, в которые, развертывается “миф” риторической культуры»; последний — «и целая речь, целое высказывание, и сюжет, и жанр, как форма, в которую отливается мысль, и самое мелкое единство смысла (пусть, например, имя собственное), если только это происходит из фонда традиции и заранее дано поэту или писателю, если только это заведомо для него “готово”» (там же, с. 311).
[29]
Нам приходилось писать об этом применительно к философскому языку. См.: Аверинцев 1979, с. 41—81.
[30]
Вторая аналитика, 1, 3. См.: Гайденко 1980, с. 274.
[31]
Напр., Theaet, 158 dal.
[32]
Epicur., De rerum nat., 14, 7; 15, 28.
[33]
Sext. Empir., Pyrrh., I, 4.
[34]
Скепсис и агностицизм в новоевропейской культуре, как правило, имеют гуманистический контекст и смягчены им: «человечность» интерпретируется как самодостаточная истина, сама-себе-истина, снимающая вопрос об истине вне человека и над человеком (как бы секуляристское прочтение евангельской максимы: «не человек для субботы, а суббота для человека»). Античный скепсис не смягчает и не подменяет догматического вопроса об истине ничем, он берет его в несмягченном виде, чтобы подвергнуть столь же несмягченной негации. По крайней мере, таков скепсис в его чистом, «пирронистском» варианте. Путь опосредования гносеологической проблемы, а значит, смягчения скепсиса через риторический пробабилизм — это, напротив, античный путь; но о нем — ниже.
[35]
В этом отношении характерно, что мы, наследники двухтысячелетней традиции догматического богословствования, не можем описывать языческих доктрин, не вводя чуждых этим доктринам терминов христианской теологии: чего стоят все разговоры о Хапи как «ипостаси» Амона, Бритомартис как «ипостаси»
Артемиды и т.п.! Такое словоупотребление вдвойне некорректно: дело не только в том, что за термином «ипостась» стоит проблематика, специфическая для христианства и нигде больше не встречающаяся, но прежде всего в том, что сам термин создан нуждами дедуктивного рационализма (Посидоний и за ним перипатетическая традиция, также и в неоплатонизме) и для дорационалистического мышления, хотя бы сколь угодно глубокого и тонкого, смысла не имеет.
[36]
Авторитетные голоса от старых славянофилов до А. Ф. Лосева настаивали на том, что аристотелианская ориентация — исключительная принадлежность католической теологии в отличие от платонизма теологии православной. Их необходимо принять во внимание, но едва ли существует возможность вполне с ними согласиться. Иоанн Дамаскин, самый нормативный из восточных отцов, — арис-тотелик; в XI в. еретичество Иоанна Итала имеет платоническую окраску (не говоря уже о платонизирующем вольнодумстве его учителя Михаила Пселла, укоряемого со стороны патриарха Кируллярия именно за привязанность к Платону— «твой Платон!»); в XII в. православный Николай Мефонский в полемике с еретиком Сотирихом громит платоновскую теорию идей, опираясь на Аристотеля; даже терминологический инструментарий исихастской теории, разработанный в XIV в. Григорием Паламой (прежде всего оппозиция «усия — энергия»), восходит к Аристотелю (о логике которого юный Палама, еще не успевший вступить на аскетический путь, недаром делал реферат в присутствии константинопольского двора); наконец, в XIV—XV вв. последний и самый решительный противник православия, явившийся на византийской почве, Гемист-Плифон, выступает как рьяный платоник, а его оппонент Геннадий Схолярий, реставратор православия после гибели Византии, — как аристотелик. Все эти факты едва ли случайны. Платонизм не был до конца благонадежным для христианства, потому что наряду с работой над понятиями предлагал свою собственную мистику; но мистика у христианства была своя собственная, и более чистый вариант дедуктивного рационализма, предложенный Аристотелем, подходил ему в конечном счете больше, ибо допускал более четкое размежевание ролей: откровение + догматика дают сумму недоказуемых аксиом, логика и метафизика в аристотелиан-ской традиции — доказательную разработку выводов из этих аксиом. (Конечно, это упрощенная схема; реальные обстоятельства средневековой рецепции дедуктивного рационализма осложнялись не только авторизацией толщи платонического материала патристикой, но и наличием чрезвычайно влиятельной неоплатонической традиции толкования Аристотеля.).
[37]
Дедуктивный рационализм был общей платформой, гарантировавшей существенное единство средневековой философии под знаком всех трех религий. Казалось бы, споры о вере между христианством и исламом велись с оружием в руках, стена предубеждений разгораживала христиан и иудаистов; но это не мешало мусульманину Ибн-Рушду («Аверроэсу») и еврею Моше бен Маймону («Май-мониду») прочно занять свое место в числе авторитетов христианского схоластика, а евреям выборочно перевести для собственного употребления Фому Аквинского, и т. п.
[38]
Здесь, несомненно, работала отчасти бессознательная, отчасти вполне осознанная аналогия с юридической наукой. «Мероопределение», принятое легитимными авторитетами Церкви, как закон принимается легитимными авторитетами государства, и было законом sui generis, «законом, как должно веровать» — * lex credendi*. В этой связи нелишне вспомнить, во-первых, факт наличия у лучших умов патристики юридической культуры, а порой, как у Максима Исповедника, и специального юридического образования (на значение этого факта в свое время энергично указывал А. Демпф; см.: Dempf1964, 196Z)\ во-вторых, близость между теологией и каноническим правом в жизни традиционных структур Церкви на протяжении целого ряда эпох; в-третьих, то обстоятельство, что в античном семантическом обиходе законоположение, например, сенатское постановление, называлось по-гречески все тем же словом «догма»! К роли юриспруденции как модели дедуктивно-рационалистического мышления и одновременно как жизненного, житейского, практического стимула такого мышления нам еще придется вернуться в связи с судебной риторикой, да и риторикой вообще.
[39]
О значении контраста между отсутствием логической формализации в библейских текстах и обязательным ее присутствием в текстах средневековой теологии нам приходилось подробнее говорить в другом месте (наст, изд., с. 236—239).
[40]
Гораций описал этот феномен внутришкольного авторитаризма крылатой фразой: «Iurare in verba magistri» («Присягать словам учителя» — epist. I, 1, 14). В поговорку вошел авторитаризм пифагорейцев, что хорошо согласуется с особым характером легенд о Пифагоре; но столь чуждая мистицизму школа, как эпикурейская, тяготела к культу личного авторитета учителя. Неоплатонизм очень быстро ушел от своей начальной ситуации, когда Порфирий еще мог некоторое время отстаивать в спорах со своим учителем Плотином тезис о внеположности идеи уму (Vita Plot., 18).
[41]
Эпикурейцев даже называли «эйкадистами» («двадцатниками») за обыкновение совершать по двадцатым числам каждого месяца ритуальное торжество в честь Эпикура и Метродора. Культ Платона, приуроченный к 7 Таргелиона, достаточно известен.
[42]
См., напр.: Procli in Tim., Ill, 9, 22; III, 34, 3 Diehl.
[43]
См.: Ibid., I, 77, 24 Diehl.
[44]
Этот эпитет в приложении к Микеланджело еще при жизни последнего стал настолько примелькавшимся, что Аретино строит на нем каламбур. См.: Burckhardt 1908, S. 180.
[45]
Нам приходилось говорить об этом в другом месте: «Платон... дал начало цепочке школьного преемства Академии в Афинах, и потому он “божественный”;
но Ямвлих... основал традицию конкретных неоплатонических школ — Сирийской и дочерней по отношению к ней Пергамской... и потому Ямвлих тоже “божественный”, как предмет культа для адептов этих школ и школьный авторитет, которому, так сказать, клялись на верность учившие от его имени преемники» (Аверинцев 1984, с. 51).
[46]
Разумеется, были другие мотивы (общее с иудаизмом представление о бороде как необходимой части богосозданного облика мужчины; весьма характерная для греков и левантийцев привычка ассоциировать «женоподобное» бритое лицо мужчины с мужеложством; воспоминания о длинных волосах и бородах как знаке посвящения у ветхозаветных назареев). И все же оглядка на традиционный облик философа не могла не играть роли; достаточно вспомнить, как охотно самый термин φιλοσοφία употреблялся в патриотические времена для обозначения образа жизни духовных лиц.
[47]
У истоков риторической традиции — «Похвальное слово Елене» Горгия, обосновывающее невинность прелюбодейки, и «Бусирис» Исократа, делающий из мифологического злодея образцовую фигуру правителя. На исходе античности — «Похвальное слово лысине» Синесия.
[48]
Philostr. vit. sophist. I prooem. I, p. 196 Westermann.
[49]
Resp., X, 607 c.
[50]
Как известно, логические проблемы, выдвинутые схоластами позднего средневековья и полностью вытесненные из общественного сознания насмешками адептов новой культуры, настолько тонки, что находят понимание только в нашем столетии. Ср.: Lewis 1954.
[51]
На это было с большой энергией указано едва ли не самым сильным в ряду младшего поколения исследователей средневековой философии — западно-германским исследователем Куртом Флашем. См.: Flasch 1980.
[52]
Arist., Rhet., I, 1354a.
[53]
Ср. такие замечания об эстетике метафоры: «Метафоры нужно брать... от вещей сродных, но не явно похожих, как и в философии почитается проявлением проницательности видеть сходство и в далеких друг от друга вещах... Слушателю заметнее, что он чему-то научился... и его ум словно бы говорит: “Как это верно! А я-то думал”» (Rhet., XI, 5—6, 1412а. Пер. мой. — С. А).
[54]
Аверинцев 1979, с. 61—65.
[55]
Аверинцев 1973, с. 96—113.
[56]
Наст, изд., с. 347—363.
[57]
Ср. знаменитую дефиницию риторики как «соделывательницы убеждения».
[58]
Тем более что античная риторика и античная поэтика — явления количественно отнюдь не равновеликие, о чем см. у М. JI. Гаспарова (Гаспаров 1991, с. 27).
[59]
Хотя всегда возможны отдельные пережиточные и регрессивные явления, которые, однако, не могут поколебать даваемого эпохой в целом принципиального ответа на вопрос: что есть литература?
[60]
О системе «идей» у Гермогена как сетке координат для локализации стилистических явлений см. наст, изд., с. 272—274.
[61]
См. наст, изд., с. 149—152 и др.
[62]
См. наст, изд., с. 28.
[63]
Ср. попытки воскресить термин «риторика» в применении к определенному типу литературоведческого анализа — и у немецких формалистов 10—20-х годов XX в., и позднее.
[1]
Такие тексты «низовой» средневековой литературы, как популярные жития и поучения — от раннехристианских апокрифов и первых рассказов о подвигах и словах «отцов» египетской Фиваиды хотя бы до францисканских легенд в Италии XIII в., — стоят, разумеется, вне ситуации прямого «состязания» с классическими образцами. Но отметить это — значит попросту отметить внеполож-ность этих текстов всему, что тогда осознавалось как «изящная словесность». Сами их авторы видели в себе кого угодно — летописцев, свидетелей, сугубо деловых и практических учителей жизни и врачевателей душ — только не литераторов. Другое дело, что мы причисляем все эти сочинения к «художественной литературе», как мы ее понимаем; здесь-το и выявляется сдвиг в плоскости наиболее общих категорий. Но, едва только за житие принимался настоящий церковный литератор, едва только на амвон выходил проповедник с образованием ритора, сейчас же начиналось «состязание»: у агиографа — с античной биографической традицией, у проповедника — с античными моделями эпидейктического красноречия и нравоучительной диатрибы. То же относится и к «мирской» низовой литературе, близкой к фольклору. Совсем непритязательные творцы такой литературы действительно не помышляли о «состязании» с классической древностью, но как раз в той мере, в которой они вообще не помышляли о своей деятельности как о литературе. Стоило, однако, безвестному автору византийского эпоса о Ди-генисе Акрите, обрабатывавшему народные героические песни, проникнуться хоть немного литераторскими амбициями, и он уже не мог избежать отношений ζήλοχης, например, с позднеантичным любовным романом (особенно в экфрасисах — красоты влюбленных, цветущего сада и т. п.). Средневековая литература могла быть достаточно «варварской», но она решительно не могла выбирать и конституировать себя «варварской», культивировать свое «варварство». Вплоть до предроман-тической эпохи это оставалось немыслимым.
Именно потому, что антикизирующее «состязание» — подражание как спор и спор как подражание — было растворено в самом воздухе литературы, оно не имело нужды всегда выступать осязательно; различные степени его неявности отвечают различным степеням убывания сознательности авторского поведения в литературе.
[2]
Ср.: Аверинцев 1976, с. 152—162, особенно с. 154—155.
[3]
Маркс и Энгельс, с. 427.
[4]
Именно так выражается один французский автор XVIII в.: Formey 1755, р. 40—41 (указанием на это автор обязан М. В. Разумовской).
[5]
Прежде всего в статье «Эпос и роман. О методологии исследования романа» (Бахтин 1975, с. 447—484). Приведем несколько характерных замечаний: «Роман <...> плохо уживается с другими жанрами. Ни о какой гармонии на основе взаиморазграничения и взаимодополнения не может быть и речи. Роман пародирует другие жанры (именно как жанры), разоблачает условность их форм и языка, вытесняет одни жанры, другие вводит в свою собственную конструкцию, переосмысливая и переакцентируя их» (с. 449); «В присутствии романа, как господствующего жанра, по-новому начинают звучать условные языки строгих канонических жанров... роман вносит в них проблемность, специфическую смысловую незавершенность и живой контакт с неготовой становящейся современностью (незавершенным настоящим)» (с. 450—451).
[6]
Ср. замечание того же Бахтина: «Большие органические поэтики прошлого — Аристотеля, Горация, Буало — проникнуты глубоким ощущением целого литературы и гармоничности сочетания в этом целом всех жанров. Они как бы конкретно слышат эту гармонию жанров. В этом — сила, неповторимая целостная полнота и исчерпанность этих поэтик. Все они последовательно игнорируют роман. Научные поэтики XIX века лишены этой целостности: они эклектичны, описательны... Они, конечно, уже не игнорируют романа, но они просто прибавляют его... к существующим жанрам» (указ. соч. с. 449).
[7]
Ciceronis epistolae ad familiares. IV, 5.
[8]
«— Где теперь Троя и Микены, Фивы и Делос, Персеполь и Агригент?— продолжал отец, поднимая почтовый справочник, который он положил было на стол. — Что сталось, братец Тоби, с Ниневией и Вавилоном, с Кизиком и Митиле-ной? Красивейшие города, над которыми когда-либо восходило солнце, ныне больше не существуют; остались только их имена, да и те (ибо многие из них неправильно произносятся) мало-помалу приходят в ветхость... Самой вселенной, братец Тоби, придет — непременно придет — конец». Следует прямое пародийное цитирование письма Сервия Сульпиция: «По возвращении из Азии, когда я плыл от Эгины к Мегаре (Когда это могло быть?— подумал дядя Тоби) я начал разглядывать окрестные места. Эгина была за мной, Мегара впереди, Пирей направо, Коринф налево. — Какие цветущие города повержены ныне во прах!..» (Стерн 1949, с. 339).
[9]
Все античные и византийские прогимназматические сборники дают дефиницию и примеры «общего места» в числе важнейших элементов риторического умения, подчеркивая их важность для «умножения» любой хвалы или хулы.
[10]
Ср. дефиниции в словарях: «Общее место... опошленное частым повторением» (Даль 1911 —1912, т. 2, стб. 1627); «всем известное, опошленное частым употреблением суждение или выражение, избитая истина; бессодержательное рассуждение» (ТСРЯ, т. 2, стб. 192).
[11]
Одним из первых предвестий этого сдвига во вкусах была эпико-дидактическая поэма Альбрехта Галлера «Альпы» (1729). Десять лет спустя Томас Грэй, будущий автор «Элегии, написанной на сельском кладбище» (которая благодаря двум переводам Жуковского вошла и в историю русской поэзии), писал в одном письме из альпийского путешествия: «Нет обрыва, нет потока, нет ущелья, которые не были бы полны религии и поэзии».
[12]
Как известно, идеальный ландшафт античной буколики и эпиграммы всегда обжитой, приветливый к человеку. Чтобы найти в античной традиции хоть ка-кое-то оправдание новому, неизвестному прежним временам экстатическому или меланхолическому восторгу перед чуждостью природы человеку, в XVIII в. начали подвергать довольно энергичному переистолкованию понятие «возвышенного», дававшее возможность сослаться на так называемого Псевдо-Лонгина — неведомого греческого теоретика риторики I в. н.э. (чья популярность в Новое время составляет весьма примечательный контраст безвестности в позднеантичные века). Особая роль принадлежит, конечно, Эдмунду Бёрку, повлиявшему на Лессинга, Гердера, Канта и т. п.
[13]
Слово «схоластический» стало одиозным обозначением именно того, что мы только что назвали «ограниченным рационализмом» (рационализм, дедуцирующий свои заключения из заданных традицией посылок), и случилось это в тот исторический момент, когда против ограниченного рационализма выступил рационализм, отринувший ограничения. Более чем понятно, что представление о традиции ограниченного рационализма ниспровергатели этой традиции предпочли связать не с идеализируемой античностью, но со средневековьем как постылым вчерашним днем, непосредственным предметом отталкивания; и это было тем легче, что своей окончательной кристаллизации принцип дедуцирования част-
[1]
Libanii Descr., 1,8.
[2]
Ibid., p. 462, 8 ff. Forster.
[3]
Ср. прим. 10 на с. 156.
[4]
Например, антитетическое построение «приятно, ибо противоположности легче всего распознать, особенно же хорошо распознаются они одна через другую; и еще потому, что это похоже на силлогизм» (Rhet., Ill, IX, 8, р. 1410а). Ср. наст, изд., с. 395—396 и 405 (наш перевод текста «Риторики» и комментарий к соответствующим местам).
[5]
Толстой 1947, с.129.
[6]
Ср. размышления Бахтина о трансформирующем воздействии романа на всю панораму заставаемых им жанров (Бахтин 1975, с. 449—452 и др.).
[7]
«Экспрессивный романный жест возникает как отклонение от нормы, но его «ошибочность» как раз и раскрывает его субъективную значимость. Сначала — отклонение от нормы, затем — проблемность самой нормы» (там же, прим. 1 к с. 477). «Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения. Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» (там же, с. 479).
[8]
Ср., например: Grupp 1904, S. 166.
[9]
Negri 1902, p. 6.
[10]
Радциг 1977, с. 521.
[11]
Iulian., ер. 14. Прочтя очередную речь Либания, его царственный корреспондент восклицает: «Счастлив ты, что можешь так говорить, а еще счастливее, что можешь так мыслить. Какая речь! Какие мысли! Какая связь! Какое расчленение! Каковы умозаключения! Какая стройность! Каковы зачины! Каков слог! Какая гармония! Какая композиция!» Отметим, что Юлиан, ценитель компетентный и, конечно, не имевший никаких мотивов к лести Либанию, особо подчеркивает интеллектуальные достоинства его творчества: φρένες, σύνθεσις, διαίρεσις, ταξις, επιχειρήματα. Ср. также: Isidor. Peius., ep. 11, 42. Христиане, идейные антагонисты
Либания, видели в нем классика словесного искусства с такой же готовностью, как его единомышленники из языческих кругов.
[12]
В византийской литературе прослеживается линия подражания Либанию, идущая от Хорикия через декламации Георгия Кипрского, вплоть до заключительного этапа истории византийской учености.
[13]
Eunap., Vita soph., lOOBoiss.
[14]
Ср.: Photii bibl., cod. 90, p. 67b.
[15]
Тот же Фотий в цитированном только что месте оценивает как лучшую часть всего литературного наследия Либания именно его риторические упражнения.
[16]
Orat., XVII.
[17]
По собственному свидетельству, Либаний в это время серьезно подумывал
о самоубийстве (Liban., Orat. 1, 135).
[18]
Norman 1969, p. XXXV.
[19]
He кто иной, как Платон, искал арифметическое выражение для разницы между счастьем «человека царственного» и «человека тиранического», находя, что первое превышает второе в 9>3 = 729 раз (Resp., IX, р. 587 de).
[20]
Orat., XVII, 32.
[21]
Для риторической прозы эпохи Либания старое противоположение мифологического времени и исторического времени, регулировавшее некогда подбор сюжетов для трагедий, сменяется в своих функциях противоположением древности и позднейших времен, причем древность включает на более или менее равных правах миф и стилизованную историю и простирается до времен Александра включительно.
[22]
Orat., XVII, 32, заключительная фраза.
[23]
Ср.: Focke 1923, S. 327—328 (corrigenda S. 465).
[24]
Ср.: Erbse 1956, S. 398—424; Аверинцев 1973, с. 212—229.
[25]
Marcell., 31, 1.
[26]
Demetr., 1, 8, cf. Anton. 88 sq.
[27]
Поразительно и в то же время характерно для вкуса Нового времени, что такой тонкий знаток Плутарха и вообще греческой прозы, как Р. Гирцель, настолько не понимал места синкрисисов в художественном целом «Параллельных жизнеописаний», что предлагал попросту исключить их как нелепую интерполяцию. См.: Hirzel 1912, S. 71—73.
[28]
Необычность плутарховской биографии сравнительно с ходячим типом биографического жанра и характерность для последнего рубрицирующей композиции — тезис автора этой статьи, который он пытался доказать в своих работах: Аверинцев 1966а, 1973.
Анализ смысла рубрицирующей структуры биографии Светония дает М. Л. Гаспаров в послесловии к книге: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей (см.: Гаспаров 1964). Исследователь замечает, в частности: «Оценка всегда предполагает сравнение: чтобы оценить деятельность императора, нужно сопоставить ее с деятельностью других императоров и с требованиями, предъявляемыми к идеальному правителю. Группировка фактов должна допускать такое сравнение, следовательно, она должна быть не хронологической, отдельной для каждого императора, а логической, общей для всех» (с. 270).
[29]
Ср. рекомендации для жанра энкомия (сливавшегося с биографическим жанром еще со времен тех же Исократова «Эвагора» и Ксенофонтова «Агесилая») у Афтония (Progymn., 8, 87 Walz).
[30]
Ср. выше прим. 27. Характерно, что С. Я. Лурье, выражая недоумение по поводу структуры «Параллельных жизнеописаний», пытается объяснить ее как реверанс в сторону римских властей: «Если бы Плутарх выпустил в свет только биографии великих греков, то это могло бы быть понято как выпад против Рима (?! — С. А.). Совсем другое дело, если каждому великому греку был противопоставлен великий римлянин, — это мудрый тактический шаг» (Лурье 1941, с. 13). Абсурдность этого объяснения, грубо противоречащего всему, что мы знаем о личности и творчестве Плутарха (при всей своей искреннейшей лояльности очень просто и открыто говорившего, например, о римском сапоге, занесенном над головой каждого грека (praec. ger. reip. 813 F), и вообще наделенного достойной просто-сердечностью «джентльмена» в гораздо большей мере, чем это легко вообразить человеку нашего времени), но также и о том, чем интересовались и чем заведомо не интересовались римские «полицейские» и «цензурные» инстанции, что возбранялось и что заведомо не возбранялось греческим риторам и литераторам под римским владычеством (ср. несколько наивное, но верное замечание Л. А. Ель-ницкого в предисловии к переводу только что упомянутого трактата Плутарха: Ельницкий 1978, с. 231), проявившаяся в догадке почтенного историка погрешность против исторического такта очевидна. Впрочем, когда ум столь выдающийся, столь живой и энергичный предлагает гипотезы столь неправдоподобные, это печально, но не лишено познавательного интереса, ибо помогает лучше увидеть пропасть непонимания, разверзающуюся между нами и античностью.
[31]
Как известно, Аминтиан написал в эпоху поздних Антонинов «Параллельные жизнеописания», где сопоставлял сицилийского тирана Дионисия с Домицианом, а Филиппа II Македонского — с Августом. Влияние Плутарха не доказано, но крайне вероятно; Р. Гирцель уверенно говорил об Аминтиане как «первом известном продолжателе и подражателе Плутарха» (указ. соч., с. 77).
[32]
Одним из современников Монтеня синкрисисы Плутарха были обвинены в несправедливости (характерно, что не в натянутости, искусственности, ненужности, как в наше время), и Монтень очень живо возражал на критику: «...Бросать Плутарху такое обвинение — значит порицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы; ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности...» (Монтень 1958, гл. 32, с. 470). Сам Монтень очевидным образом подражает этой практике Плутарха, например, в своем сопоставлении Плутарха и Сенеки (гл. 10).
[33]
Crit., fragm. В 15 Diels.
[34]
Stob., 11, 8, 12. А. Наук дает фрагмент как текст Еврипида (Nauck 1926, fr. 659).
[35]
Уже Сапфо рассуждает:
Одни — строй конников, другие — строй пеших, те же — строй кораблей назовут прекраснейшим на черной земле; а я — то, что кто-то любит (οττο τις έραται)...
(fragm. 27a Diehl, 16 Lobel-Page). Можно привести еще фрагмент Пиндара, к сожалению, оборванный на полуслове цитирующим его Секстом Эмпириком, ввиду чего невозможно выяснить, имел ли он заключение по типу «я же избираю...»:
Кого-то (τινα) радуют от ветроногих коней венки и почести,
иных же обитание в многозлатных чертогах; а некто (τις) услаждается, через соленую зыбь на корабле быстром совершая путь...
(fragm. 221, Snell-Maehler).
[36]
Формулы эти закономерно появляются и в архаической греческой поэзии, например у той же Сапфо, которая говорит об Анактории: «я более желала бы видеть ее милую походку и сияющее мерцание лица, нежели колесницы лидян и пеших ратников в доспехах» (fragm. 27b Diehl, 17—20). О дочери Клеиде у нее сказано: «я не променяю ее на целую Лидию» (fragm. 152 Diehl, 132 Lobei). Очень распространенная разновидность этих формул выражает специально предпочтение одного избираемого предмета песни всем другим:
Песни мои, владычицы лиры,
Какого бога,
Какого героя,
Какого мужа будем мы воспевать?
Над Писою властвует Зевс;
Олимпийские игрища учредил Геракл От первин победы;
Но воскликнем мы ныне о Фероне...
(Olymp., 2, /—8; пер. М. Л. Гаспарова)
[37]
«В Греции мы имеем перед собой совершенно чуждый Ближнему Востоку тип «непризнанного гения»... Черты этого типа начинают проступать уже во второй половине VI столетия до н.э. (например, в сетованиях... Ксенофана на традицию, определяющую почет «грубым» атлетам, а не ему, носителю новых духовных ценностей); свою окончательную отчетливость они обретают в эпоху Еврипида, этого классического «меланхолика», явившего грекам образец творческого одиночества. Но ближневосточная литература, столь неимоверно осведомленная в самых разнообразных оттенках человеческой потерянности и злополучности... ни в одной из своих многочисленных исповедей не дает самочувствия «гения среди толпы»: такой психологический комплекс в библейском мире просто неизвестен <...> Понятие «толпа» на библейский язык непереводимо: конечно, вокруг человека ходят... глупцы и неучи, среди которых ему скучно, если он «мудрец», но все они в принципе пребывают на той же плоскости бытия, что и он сам» (наст, изд., с. 19—20).
[38]
См.: Лившиц 1933.
[39]
Ср. также оды I, 31; III, 1; IV, 3. Вне такого применения в более архаической своей роли схема выступает в оде 1,7, где заявление «буду петь Тибур» подготовлено так: «Пусть одни поют Родос, другие — Митилену...»— всего в каталоге
13 отклоняемых названий.
[40]
Образцовый анализ этой картинности см. у М. JI. Гаспарова (Гаспаров 1970, с. 13—14).
[41]
Greg. Nazianz., carm. moral., X, 456—467 (PG, t. 37, col. 713—714).
[42]
Сравнительно недавний пример: Белик 1961, с. 303—342. В этой статье даже такой персонаж, как «дочь змея», получает социологическую идентификацию, которая вполне удовлетворила бы Фому Фомича.
[43]
Античные поэты об искусстве.
[44]
Там же, предисловие, с. 10.
[45]
Anthol. Palat., XVI, 185.
[46]
У розы иглы есть, рога есть у быка.
Вот сходство. Разница ж: легко любви рука
Совьет из роз букет для милого предмета;
А из быков никак нельзя связать букета!
(Жуковский 1959, с. 345)
[47]
Anthol. Palat., XVI, 183.
[48]
Ср.: Paus., Descr. Gr., Ill, 15.
[49]
Anthol. Palat., XVI, 171—177.
[50]
Ср.: Фрейденберг 1936, с. 79, 102—103, 112—114, 354—355 и др.; Потеб-ня 1914, с. 14 и др.
[51]
Anthol. Palat., XVI, 171.
[52]
Anthol. Palat., XVI, 177 (осложнено тем, что в терминологии Мейерхольда, развитой Эйзенштейном, именуется «отказным движением»: автор начинает с того, что обосновывает полную несовместимость Афродиты и доспехов).
[53]
Anthol. Palat., XVI, 176.
[54]
Anthol. Palat., XVI, 172.
[55]
Anthol. Palat., XVI, 173.
[56]
Anthol. Palat., XVI, 159—170.
[57]
Anthol. Palat., XVI, 167.
[58]
Ср. выше прим. 52 о понятии «отказное движение».
[59]
Anthol. Palat., XVI, 160.
[60]
Anthol. Palat., XVI, 162.
[61]
Anthol. Palat., XVI, 163.
[62]
Anthol. Palat., XVI, 168.
[63]
Понятие прецедента имеет огромное значение для античного и вообще раннего рационализма ввиду юридической окраски последнего.
[64]
Anthol. Palat., XVI, 165—166, 169—170.
[65]
Ср. понятие медиации в анализе структуры мифа, например, у К. Леви-Стросса. Характерно, что последнему понадобился этот термин по ходу описания интеллектуалистических аспектов мифа.
[66]
Ср.: Лосев 1957, с. 50—52.
[67]
Anthol. Palat., XVI, 160b.
[68]
Вспомним роль, которую категория пластичности играет в популярных схематических характеристиках античной культуры от эпигонов Гегеля до Шпенглера и далее, переходя из рук в руки и превращаясь у популяризаторов в совершенно расплывчатую и бесцветную, но тем более всепроникающую идею. Нарочитая «выпуклость форм», априорно ожидаемая от всякой античной поэзии, но прежде всего от греческих стихотворений «из антологического рода», как говорили в старину, была отлично спародирована еще в стихотворении Козьмы Пруткова «Древний пластический грек» (ср. его же «Спор греческих философов об изящном» и «Письмо из Коринфа»). По мере начавшегося в XIX в. поступательного снижения «наивного» интереса к умственной и нравственной культуре античности, к эллинскому интеллектуализму и эллинскому морализму (имевшему центральное значение для самих древних, удерживавшему его для европейцев средневековья, Возрождения, Просвещения) одностороннее подчеркивание «пластических» компонентов античного наследия закономерно делается все сильнее. Вся шпен-глеровская концепция «аполлоновской» культуры определяется тем фундаментальным фактом, что это взгляд извне; «пластика» античности сохраняет власть над воображением Шпенглера (и его предполагаемого читателя), но эллинская мысль уже ничего не говорит непосредственно его уму, а эллинская этика — его сердцу.
[69]
Ср. ходовые характеристики такого типа: «Асклепиада занимали преимущественно любовные темы...» «Леонид искренне жалеет бедняков и тружеников и посвящает им полные глубокого чувства эпитафии... он откликается на военные события... подшучивает над пьяницей старухой Маронидой... живо воспринимает произведения искусства...» «Мелеагр... всецело обращается к той тематике, которая была по душе и ему самому, и тому богатому и легкомысленному обществу, в каком ему приходилось завоевывать себе положение. Большая часть его эпиграмм... игривого и любовного содержания» (ИГЛ, т. 3, с. 124, 127—128). Разумеется, в таком способе описывать материал, весьма обычном и далеко не всегда удерживающем такой простодушный характер, нет ровно ничего непозволительного; однако ряд аспектов сложной реальности эпиграмматического жанра он неизбежно игнорирует, смещая общие пропорции, в частности соотношение между личностным и внеличностным. Исследователь имеет право предпочтительно интересоваться действительно ярким индивидуальным обликом, скажем, Леонида Тарентского или Паллада; нельзя, однако, не видеть, что удельный вес внеличностного в этом жанре особенно велик (что выразилось, между прочим, во-первых, в структуре традиционных сборников — группировка текстов по темам, не по авторам! — во-вторых, в особой ненадежности традиционных атрибуций). О повышенной консервативности жанра эпиграммы нам придется говорить ниже.
[70]
Ср.: Тройский 1957, с. 215 (эпиграмма есть «средство создать образ, настроение, запечатлеть ситуацию»), с. 216 (она «стремится зафиксировать ситуацию, момент»).
[71]
Anthol. Palat., XVI, 1—4, 6—8, 11—13, 48—51, 116—147; append, nova Cougny, VII, 1—5.
[72]
Anthol. Palat., XVI, 5, 9—10, 14—47, 52—64, 103—111; append., VII, 6—81.
[73]
ИГЛ, т. 3, c. 124—125.
[74]
Anthol. Palat., IX, 359.
[75]
Последняя атрибуция — в сборнике Плануда.
[76]
Почему эпиграмма не несет столь часто встречающегося в Палатинской антологии надписания άδηλον («авторство неясно»)? Для этого она слишком хороша; такому яркому и популярному творению (о популярности которого свидетельствуют не только включения в сокращенный Планудов извод антологии, но и ответ Метродора, о котором см. ниже) не полагается стоять в рукописи без всякого имени. Но два (или три) имени сразу — все равно эквивалент того же άδηλον.
[77]
Soph. Oed. Colon, 1224—1227; Alex. Com., (Fr. AH Com. II, 447).
[78]
Ср.: Аверинцев 1977, с. 144—147. В соответствии с темой этой книги в ней не рассматриваются позднейшие факты этого ряда, например переложение Акафиста Богородицы ямбическими триметрами, выполненное в начале XIV в. Ману-илом Филом.
[79]
Например, Poemata moralia, 35—36 (PG, 37, col. 965—966); 37—38 (Ibid., col. 966—967).
[80]
Anthol. Palat., XIV, 116—146.
[81]
Anthol. Palat., IX, 360.
[82]
При таком понимании соотношения между двумя эпиграммами остается вопрос: почему именно первая была «пессимистической» и вторая «оптимистической», а не наоборот? Но ответ, как кажется, очень прост. Первая эпиграмма — вызов, вторая — ответ на вызов; первая обязана быть и по тону своему вызывающей, вторая — нет, ибо ее существование оправдано вызовом, содержащимся в первой. Но тезис «во всяком образе жизни есть нечто хорошее» не является вызывающим и при неспровоцированном высказывании просто неинтересен; напротив, в тезисе «ни в каком образе жизни нет ничего хорошего» достаточно задора. Именно этот диспутальный задор, а не «мировую» (или «гражданскую») скорбь обязаны мы ощутить в первой эпиграмме.
[83]
Так определяется тема обеих эпиграмм в леммах рукописей.
[84]
Ср., например, ряд ямбических эпиграмм Григория Богослова с идентичной логико-синтаксической структурой, а именно основанных на схеме пятичленной (в одном случае — четырехчленной) градации, причем параллелизм подчеркнут (как и у Метродора) формальным единообразием метрического свойства: первый колон каждого первого стиха и затем анжабеманы во всех остальных стихах, кроме последнего, непременно занимают по пять слогов, т. е. по две стопы и по тесису третьей (Poemata moralia, 20—23, PG, 37, col. 788—790).
[85]
«Dispositio» (греч. τάξις, ср. Arist. Rhet., Ill, 12) — одно из центральных понятий риторической теории. В новой научной литературе иногда употребляется как коррелят к понятию композиции; термин «диспозиция» акцентирует момент школьной правильности, рассудочной последовательности (то, чего мы ждем от идеального ученического сочинения), термин «композиция» — момент «творческой» субъективности (то, чего мы ждем от художественной литературы в современном смысле слова).
[86]
Еще вопрос, что важнее для автора первой эпиграммы — высказать свое «пессимистическое» суждение о мире или похвалиться тем, как складно он сумеет в шести парах дихотомий (как теперь говорят, бинарных оппозиций) создать иллюзию исчерпывающего перебора жизненных возможностей; и Метродор, вступая в игровую полемику с оценочным наполнением пунктов каталога, не только принимает самый каталог, но, как бы повернув его вокруг оси симметрии, дает ему статус независимости от конкретного тезиса, в связи с которым он был изначально предложен. Логическая диспозиция имеет здесь такое значение, к которому она стремится в неисчислимом множестве других случаев.
[87]
Norden 1898, Bd. 1, S. 18—20.
[88]
Для рубежа I в. до н.э. и I в. н.э. имеются эпиграммы Кринагора, Антипат-ра Фессалоникского, Гетулика, Алфея и др.; для IV в. н.э., когда буйное цветение риторической прозы не оставляло никакого места для поэзии, — эпиграммы Григория Богослова, Юлиана Отступника, позднее Паллада; даже для IX в., времени глубокого упадка всех унаследованных от античности жанров, — ямбические эпиграммы Феодора Студита и Кассии, неловкие, но сохраняющие равенство себе жанровой структуры.
[89]
Anthol. Palat., append. V, 10.
[90]
Anthol. Palat., VII, 747.
[91]
II Paralip., 6, 18.
[92]
1,40.
[93]
VII, 149.
[94]
I, 33.
[95]
1,36.
[96]
Цит. по примечаниям в парижском издании «Палатинской антологии» 1871 г. (серия Ф. Дидо), т. 1, с. 17.
[97]
«О граде Божием», I, 26.
[98]
VII, 35.
[99]
I, 19,4.
[100]
I, 20, 1—3.
[1]
Poetica4, 1449а14; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 118).
[2]
Poetica 6, 1449Ь24—27. Даже неспециалисту эта дефиниция памятна тем, что под конец ее вводится понятие катарсиса.
[3]
Выделение субстанциальных признаков как составляющих полного определения «усии», их отграничение от акцидентальных признаков — один из важнейших моментов всей аристотелианской традиции (ср.: Metaphisica V, 14, 1020а34— 35; V, 30, 1025а14—29 etc.).
[4]
Poetica 4, 1448Ь4—11.
[5]
Poetica 4, 1448Ь20—23.
[6]
Аристотель, по крайней мере, ощущает отсутствие этого понятия (и понятия художественной прозы): «А то искусство, которое пользуется только голыми словами без метров или метрами, причем последними или в смешении друг с другом, или держась какого-нибудь одного — оно до сих пор остается без названия. В самом деле, мы ведь не смогли бы дать общего имени ни мимам Софрона с Ксенархом и сократическим разговорам, ни если бы кто совершал подражание посредством триметров, элегических или иных стихов...» (Poetica 1. 1447а28— Ь12; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 112—113).
[7]
Poetica 1, 1447а13—27.
[8]
Слово γένος еще не терминологизировано у Аристотеля и означает у него общее устремление к хвалебному (эпос, трагедия) или снижающему (ямбы, комедия). См.: Poetica 4, 1449а2.
[9]
Poetica 1, 1447а13—27.
[10]
Poetica 1, 1447а25—Ь28.
[11]
Metaphisica V, 8, 1017Ы1; пер. A.B. Кубицкого (Аристотель 1976, с. 157).
[12]
Symposium 223d; пер. С. К. Апта (Платон 1970, с. 156).
[13]
Poetica 4, 1448Ь34—1449а1.
[14]
Ср.: Шталь 1975, с. 7—30.
[15]
Шеллинг 1966, с. 86.
[16]
Poetica 3, 1448а19—23.
[17]
Шеллинг. Указ. соч., с. 345.
[18]
Hegel 1965, S. 397—402.
[19]
Ср.: Белинский 1954.
[20]
Staiger 1959. S. 219—228.
[21]
Само слово βιος относящаяся к XII в. византийская переработка античного лексикологического и энциклопедического материала, известная под названием Etymologicum Magnum, разъясняет как είδος ζωής — «образ жизни». Мы привыкли к тому, что биография — жанр повествовательный, но античность широко практиковала биографию описательную. Ср.: Аверинцев 1973.
[22]
Объем жизнеописания Платона у Диогена Лаэртского превышает объем его же заметки о Кебете Фиванском примерно в 659 раз. Другие примеры см.: там же, с. 243, 247—248 и др.
[23]
Например, в числе биографических заметок о поэте Пиндаре, предпосылавшихся в рукописях его текстам, имеется одна, написанная гекзаметрами, а по своему содержанию и построению не отличающаяся от других. См.: Pindarus 1811, p. XXIX—XXX.
[24]
См.: Аверинцев. Указ. соч., с. 120—125. Мы пытались показать, в частности, что предложенное Ф. Лео в его классической работе противопоставление «научного» и «художественного» типа биографии не охватывает сложности явления; ср.: Leo 1901.
[25]
Попытки различать в словоупотреблении термины «литературный вид» и «литературный жанр» непоследовательны и неубедительны; они скорее сигнализируют о внутренних противоречиях существующей жанровой номенклатуры, чем указывают выход. См.: КЛЭ, т. 1, стб. 954.
[26]
Это фрагменты биографии Еврипида, входившей в шестую книгу сборника, озаглавленную «О жизни трех трагических поэтов». См.: Arnim 1913, р. 124 f; Leo 1912, S. 273—290.
[27]
См.: Аверинцев. Указ. соч., с. 121; Payr 1962.
[28]
В качестве примера можно назвать сочинения Псевдо-Деметрия Фалер-ского и Псевдо-Либания. 35. Lfg., 1960, S. 332—343.
[29]
Ср.: Античная эпистолография.
[30]
См., например: Diogenis Laertii VI, 24; Athenaei V, 21 Id; Luciani Alexander 5; Eusebii Praeparatio evangelica XIV, 5.
[31]
Это еще живо ощущает один из основоположников изучения диатрибы. См.: Wendland 1912, S. 75—91.
[32]
Satyre Мётррёе.
[33]
Ср.: Scherbantin 1951.
[34]
«...[П]ервым представителем его был, может быть, еще Антисфен... Писал «Менипповы сатиры» и современник Аристотеля Гераклид Понтик...» (Бахтин 1963, с. 150).
[35]
«Развернутой «Менипповой сатирой» являются «Метаморфозы»... Апулея (равно как и его греческий источник, известный нам по краткому изложению Лукиана)» (там же, с. 151).
[36]
Там же, с. 161. Несколько ниже «Бобок» Достоевского назван «почти классической мениппеей», в которой «жанр мениппеи продолжает жить своей полной жанровой жизнью» (там же, с. 189).
[37]
Иванов 1916; !vanov1971.
[38]
Заглавие стихотворного сборника И. И. Дмитриева (1795).
[39]
Державин 1876, с. 168.
[40]
Карамзин 1900, с. 113.
[41]
Конечно, и самые настоящие термины — все, кроме искусственно образуемых, — кристаллизуются из «словечек», из нестрогого, но живого профессионального «жаргона». Нам пришлось однажды обстоятельно говорить об этом (Аверинцев 1979, с. 41—81, специально с. 46—53, важно прим. 32 на с. 74). Дело решается тем, завершилась ли кристаллизация в пределах той или иной большой культурной эпохи. Термин «импрессионизм», как известно, получился из насмешливого словечка, введенного критиком и обыгравшего название совершенно определенной картины Клода Моне, выставленной в 1874 г. в Париже; однако оно успело стать серьезным и фиксированным термином для той же европейской культуры новейшего времени, которая породила само явление. Но античная культура окончила свой исторический путь, так и не узнав, что «диатриба» — термин и специально термин литературной теории. Она не узнала также многого другого, например, что слово «неотерики», представляющее собой контаминацию греческого словечка νεώτεροι (новейшие) из обихода Цицерона (Orator 161, ad Atticum VII, 2, I) и позднелатинского neotericus (преданный новшествам), есть термин, обозначающий поэтов из кружка вокруг Катулла и Кальва. В общем, дело сводится к тому, что наша интеллектуальная культура сделала нормой значительно большее количество терминов и значительно большую степень фиксированности каждого термина, чем античная, что и сказывается при любом акте «перекодирования» информации; и особенно коварный случай — когда мы пользуемся в качестве терминов античными выражениями. Проблема, конечно, не ограничивается историей литературы, историей культуры; она сохраняет свое значение для политической истории. Все термины, без которых мы не можем построить самого простого суждения о римской политике, не говоря уже о греческой, — даже «оптиматы» и «популяры», тем более «республика» и «империя», и т. д. и т. п. — завершили свой путь к статусу терминов уже в европейской науке нового и новейшего времени.
[42]
О принципиальном значении логически выверенной дефиниции как специфической формы мысли вообще и теоретико-литературной мысли в частности см. наст, изд., с. 229—243, особенно с. 231—239.
[43]
Poetica 1447а13.
[44]
Аристотель 1978, с. 112.
[45]
Poetica 1450Ы6—20; пер. М. JI. Гаспарова (там же, с. 123).
[46]
Наст, изд., с. 146—167 и 101—114; Awerintzew 1979, S. 267—270.
[47]
Ср.: Аверинцев 1979, с. 62—65.
[48]
Ср.: Лосев 1975, с. 463—471; Cooper 1924; Else 1957. В настоящее время над этой темой работает М. Л. Гаспаров.
[49]
Ср.: Гаспаров 1963, с. 97—151.
[50]
Некогда высказанное в истории отечественной филологии утверждение, согласно которому все послание к Пизонам от начала до конца посвящено исключительно драматической поэзии (Нетушил 1901, с. 40—76), является явной утрировкой. Ср.: Каплинский 1920; Гаспаров. Указ. соч., с. 121. Нет нужды соглашаться с ним, чтобы констатировать простой факт — те части послания к Пизонам, которые содержат конкретные указания касательно жанровых реальностей, а не поэтической практики вообще, трактуют о драматических жанрах (кроме пассажа об эпосе — ст. 136—152).
[51]
Всегда цитируется свидетельство Порфириона Помпония в начале его комментария к посланию Горация к Пизонам: «Он собрал правила Неоптолема Па-рийского, касающиеся искусства поэзии, однако не все, а только самые важные».
[52]
Philodemus 1923.
[53]
Ср. наст, изд., с. 244—318, особенно с. 248—251.
[54]
Ciceronis Orator 66; De oratore И, 51—64; Quintilliani Institutiones oratoriae IX, 4, 129; id. X, I, 73. Специально речи и другие пассажи Фукидида изучались в риторских школах как образцы красноречия. Ср.: Аверинцев 1973, с. 95—96, прим. 5—
9 на с. 146—147.
[55]
«Genus maxime oratorium» (De legibus 1, 2, 5).
[56]
Ср.: Reitzenstein 1926, S. 84—99; Kerenyi 1927, S. 1—23.
[57]
О принципе подражания-состязания в системе рефлективного традиционализма см. наст, изд., с. 148 и 109. Разумеется, сам по себе этот принцип отлично известен эпохе дорефлективного традиционализма; но и он в своей конкретной реализации вместе со всем остальным преобразован сознательной рефлексией, фиксирующей черты жанра. Архаические певцы состязались в «мудрости» вообще, в «умении» вообще; поэты и прозаики эпохи рефлективного традиционализма состязаются прежде всего в точности, с которой их творчество воспроизводит абсолютную норму жанра. «С точки зрения искусства (κατά την τέχνην), — говорит Аристотель, — лучшая трагедия — это трагедия именно такого склада» («Поэтика», гл. 13; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 131). После того как законы жанра сформулированы «с точки зрения искусства», от произведения требуется максимум жанровой идентичности: по этой логике наилучшая трагедия есть «трагичнейшая» трагедия (там же, с. 132). Коль скоро есть дефиниция жанра, с любого образчика этого жанра спросят соответствие дефиниции. Это принципиально новый смысловой момент, отсутствующий в архаической агонистике хотя бы ввиду отсутствия дефиниций.
[58]
Ср. наст, изд., с. 244—318, особенно с. 274—277. Проблеме индивидуального стиля в античной и византийской литературной теории мы посвятили специальную статью <...> (см. наст. изд. с. 220—228).
[59]
Ср. наст, изд., с. 151 и 109—110. Промежуточным звеном между статусом жанра как литературного «приличия» и пафосом сословного деления является, конечно, фундаментальное для традиционной эстетики противоположение «высокого» и «низкого». Важно, что противоположение это было одним из изобретений треков. В литературных традициях Ближнего Востока, например в древнееврейской, мы не найдем систематического разнесения синонимов по стилистическим графам. «В коптской лексике, как и в древнеегипетской, нет привычного для нас деления на обыденный и высокий стиль... Высокопарность, пышность или торжественность речи достигались не путем использования особой лексики, а ...сравнениями, тропами, метафорами» (Еланская 1964, с. 18—19).
[60]
Там же.
[61]
Одно из таких исключений — теория гимна как разновидности эпидейк-тического красноречия, предложенная ритором III в. Менандром Лаодикийским.
Разумеется, «аннексия» гимна для риторической прозы — новация так называемой второй софистики, породившая некоторый жанровый гибрид; достаточно вспомнить прозаические гимны Либания и Юлиана Отступника. Но эта новация, во-первых, с самого начала лежала в русле архаизаторских тенденций, во-вторых, укладывалась в освященное традицией понятие эпидейктического рода.
[62]
Вопиющий пример — отказ византийской теории замечать гимнографическое творчество Романа Сладкопевца и его сподвижников, да и вообще поэзию, основанную на неантичных принципах стихосложения. Ср. наст, изд., с. 245— 251.
[63]
Ср. классификацию видов повествования в прогимназматах Николая Софиста (V в.): Spenge! ed. 1856, Т. HI, p. 445, 29.
[64]
Специалисты по античному роману не преминули делать это, начиная с классического труда Эрвина Роде: Rohde 1914, S. 350—353.
[65]
Spenge! ed. 1854, Т. II, p. 22, 4 ff.
[1]
Ср.: Клочков 1983, с. 91—96.
[2]
См.: Sellin— Fohrer 1969, S. 398—399.
[3]
Ibid., S. 374—517.
[4]
Ср.: Клочков 1983, с. 93.
[5]
Ср.: наст, изд., с. 13—75, особенно 27—31.
[6]
См.: Клочков 1983, с. 93 и к ней прим. 80. Позднеантичная параллель — корпус мистических сочинений, носящих имя Гермеса Трисмегиста. Еще одна позднеантичная параллель, выразительно свидетельствующая о возврате ближневосточного понимания авторства как авторитета, — отношение неоплатонических комментаторов к корпусу так называемых «Халдейских оракулов»; как очевидно из традиции, сохраненной словарем «Суда», s. v. Iulianus, все помнили, что это изделие конца II в. н. э., связанное с именем Юлиана Теурга, что не мешало видеть в нем откровение древней мудрости Востока.
[7]
См.: Аверинцев и Роднянская 1978; а также наст, изд., с. 101—144.
[8]
См.: Миллер 1975, с. 140—174 (в приложении — переводы).
[9]
Amphilochia XCI—XCIII. Cf: Sevcenko 1981, S. 298—300.
[10]
Amphilochia LXXXVI.
[11]
Ср. стилистический разбор библейских мест в «Эклоге» Фомы Магистра (XIV в.).
[12]
Ипертима Пселла слово, составленное для вестарха Пофоса, просившего написать о богословском стиле, 19 и 20. / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия, с. 169.
[13]
Там же, 22 // Там же, с. 170.
[14]
Критика способности суждения, § 46. «Оригинальность» гения (см. там же § 49) мыслится первичной по отношению к правилам.
[15]
См.: Curtius 1973.
[16]
Аристотель 1976, с. 273. Ср. наст. изд. 146—157 и 158—159.
[17]
Любарский 1975, с. 125.
[18]
Там же.
[19]
Timaeus 28с.
[20]
Rabe ed. 1913, vol. 6, p. 216, 16; cf. ibid., p. 217, 9.
[21]
Rabe ed. 1935, vol. 14, p. 390, 12.
[22]
Ипертима Пселла слово... // Античность и Византия, с. 165.
[28]
Kustas 1973.
[1]
О становлении теоретического подхода к литературе в классической Греции и о творчестве Аристотеля как зрелом явлении этого подхода см.: Миллер 1978, с. 5—106.
[2]
«...На формирование идей арабской литературной критики существенное воздействие оказала греческая наука... Здесь налицо заимствование. Насколько были правы арабские филологи, заимствовавшие категории, выработанные греческой эстетико-литературной мыслью на греческом материале, еще предстоит выяснить» (Куделин 1973, прим. 30 к с. 121; ср. также с. 119—126).
[8]
Автор этих строк пытался дать в эскизном, тезисном виде перспективу историко-литературных эпох, стоявших под знаком рефлективного традиционализма, т. е. аристотелевской концепции жанра. См. наст, изд., с. 146—157.
[4]
Экклезиаст, 12, 11.
[5]
«Одиссея», I, с. 341—348; пер. В. А. Жуковского.
[6]
«Поэтика», VI, 49В24—28; пер. М. JI. Гаспарова.
[7]
Там же, VII, 50В26—32.
[8_]
Там же, X, 52А14—16.
[9]
Там же, XVIII, 55В26—27.
[10]
«Софист», 218 В—С; пер. С. А. Ананьина (Платон 1970, с. 323)
[11]
Там же, 268 С—D; (с. 399).
[12]
«Метафизика», VII, 4, ЮЗОаб; пер. А. В. Кубицкого (Аристотель 1976, с. 192).
[13]
II кн. Маккавейская. VII, 28.
[14]
Послание к евреям, XI, 1.
[15]
De fide orthodoxa 68, p. 167>1'>2 Kotter.
[16]
Dialectica 3, p. 56>1—27 Kotter.
[17]
De fide orthodoxa 26, p. 77*>1—>48 Kotter.
[18]
I послание к Коринфянам, 13.
[19]
Φιλοκαλία..., σ. 4.
[20]
Имеется в виду коллективный сборник 1986 г. — см.: Проблемы литературной теории, с. 191—235 (пер. Н. А. Рубцовой).
[21]
Там же, с. 221.
[22]
«Метафизика», XI, 4. 1059В24—25 (с. 273).
[23]
Ср. наст, изд., с. 151—152.
[24]
Ср.: Grabmann 1922, Bd. 2, S. 93—94.
[25]
ibid., Bd. 2, passim.
[26]
Rhetorica, liber I, cap. I, p.. 1355a4—14; cap. 11, p. 1356b.
[1]
Krumbacher 1897, S. 663.
[2]
Bouvy 1886, p. 358.
[3]
Cataphygiotou-Topping 1966, p. 92—111; Idem 1969, p. 31—41.
[4]
Crosdidier de Matons 1977, p. 320—327
[5]
Термин «кондак» с известной долей условности применяется в научной литературе к большим ранневизантийским композициям из многих строф (икосов). (См.: Аверинцев 1977, с. 318 и 210—211.) В церковном обиходе он означает отдельные строфы, удержавшиеся внутри *чинопоследования» того или иного праздника после вытеснения этих композиций из богослужебного употребления, а также меньшие строфы акафистов.
[6]
Науке XIX в. пришлось совершенно заново открывать этот феномен — после многовековых попыток видеть в византийской церковной поэзии либо чистую прозу, либо какое-то странное преломление античной метрики. Примечательно, что греки, участвовавшие в ученой жизни Западной Европы, ничем не могли помочь своим коллегам; уже после работ кардинала Ж.-Б. Питра, поставивших подход к византийской гимнографии на здравую научную основу, греческий ученый К. Сафа (Σαθας 1878, σ. ρν’) энергично настаивал на отсутствии в гимнографических текстах каких-либо признаков стихосложения; одновременно в Греции продолжали сочинять новые гимны с соблюдением тех же правил, что и в византийские времена (ср.: Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 121, n. 16). Так до своего последнего самоисчерпания восходившая к Византии традиция разводила практику гимнографии и филологическую ученость. В той мере, в которой последняя все же принимала к сведению первую, она относила ее не по рубрике литературы, а по рубрике музыки, как это наблюдается уже в дефиниции ирмоса у византийского ученого Иоанна Зонары (PC, 135, coll. 421 В—428 D).
[7]
Bouvy. Op. cit., р. 368.
[8]
Так он именуется в рефрене кондака на его праздник (Grosdidier de Matons. Op. cit., p. 167—169).
[9]
Рассказ о том, как она дала Роману проглотить хартию, после чего он смог незамедлительно воспеть свой знаменитый рождественский гимн, повторяется во всех житийных отрывках, ему посвященных.
[10]
См. кондак, названный выше в прим. 8 — икос 1, ст. 5—6 по изданию в монографии Гродидье де Матона.
[11]
Там же, ст. 4.
[12]
Сама безличность и отвлеченность похвал дару Романа свидетельствует о высокоофициальном характере признания. Домыслы Кордакидиса о византийской церковной традиции, неблагожелательной к Роману и чернившей его (Κορδακιδης 1971), совершенно не убедительны (ср.: Grosdidier de Matons. Op. cit., p. 197—198).
[13]
Возможное исключение — акафист Богородице, приписываемый Роману некоторыми специалистами.
[14]
Например, в «чинопоследовании» на праздник Рождества за б-й песнью канона идет кукулий гимна Романа, обозначаемый уже как «кондак», а за ним первая строфа, обозначаемая просто как «икос», ибо другие икосы отброшены. Кукулий начинается словами «Дева днесь Пресущественнаго раждает», икос — «Едем Вифлеем отверзе». Но ведь у Романа икосов было 24!
[15]
Ср.: Аверинцев. Указ. соч., с. 103—104 и 317—318. Любопытно, что канон часто возращается либо к ритмической прозе («Великий канон» Андрея Критского), либо — в виде нечастого, но характерного исключения — к античной метрике (ямбические каноны Иоанна Дамаскина).
[16]
См.: Christ, Paranikas 1871, p. XXVIII. Тот же Ксанфопул, однако, довольно пространно говорит о Романе Сладкопевце в своих «Толкованиях на степенны антифоны Октоиха» (соответствующий отрывок, изданный К. Афанасиадисом Свя-тогорцем, перепечатан в статье: Papadopouios-Kerameus 1893, S. 601—603). Но Роман существует для него, во-первых, как герой легенды, во-вторых, как композитор и певец, главное отличие которого — καλλιφωνία, только не как поэт, не как явление словесности. «Агиографический», а не «историко-литературный» Роман упомянут и в эпиграмме Михаила Пселла:
Не Ты ли древле, Дева, предала во снедь Роману свиток, Твоему служителю?
И мой кратер исполни, Благодатная,
Премудрости сладчайшим растворением,.
Затем, что дух бесплоден мой, и ум мой сух;
Я жажду влаги, душу напояющей.
(Перепечатано у Гродидье де Матона: Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 190).
[17]
Amphilochia XCI—XCIII. Ср.:Sevcenko 1981, S. 298—300.
[18]
Amphilochia LXXXVI.
[19]
Ecloga, 112, 9; 165, 3; 192, 10; 273, 9; 312, 5; 337, 17 ed. Ritschl.
[20]
Пселл 1975, гл. 10, с. 165; пер. Т. А. Миллер. Ср.: Миллер 1975, с. 140—
155.
[21]
Пселл. Указ. соч., гл. 10—11, 17—18 и др. Характерно замечание о Григории Назианзине в другом трактате, рассматривающем его стиль наряду со стилем Василия, Иоанна Златоуста и Григория Нисского: «Своей речи он придал лоск не хуже любой аттической музы» (пер. Т. А. Миллер; см.: Миллер. Указ. соч. с. 154)
[22]
Walz ed. 1834, vol. 3, p. 692, 24—25; p. 693, 4.
[23]
Имеются два исключения: «Вечерняя песнь» и «Увещание к деве». Однако эти образцы неуверенно пробуемой силлабики, важные для истории литературы, как мы ее теперь понимаем, совершенно теряются на фоне необычайно обильной поэтической продукции Григория Назианзина в гекзаметрах, элегических дистихах и ямбических триметрах. Во всяком случае, не ими определяется облик его творчества. Византийский почитатель стиля Григория, как тот же Пселл, имел полное право не заметить самого их существования.
[24]
Ср. посвященные им разделы в классическом труде Эд. Нордена: Norden 1898, Bd. 2.
[25]
«Диатрибами» они называются в рукописях, «гомилиями» — в заглавии одного из разделов флорилегия Иоанна Стобея («Из увещательных гомилий Арриана» — Йог. 97, 28).
[26]
Ср. Κομίνης 1966.
[27]
Словосочетания πεζός λογος (прозаическая речь) и όίμτρος λογος (речь, не организованная по правилам классической метрики античного типа) употреблялись как синонимы (Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 121). Например, Григорий Коринфский говорит о канонах Косьмы Маюмского, что они написаны πέζώ λόγω, τφ άμέτρφ δηλαδή («прозою, сиречь вне метра»; см.: Stevenson 1876, р. 491 et п. 4). Лишь на исходе исторического бытия Византии название хотя бы одного силлабического размера — так называемого политического, т. е. общедоступного, пятнадцати-сложника, — стало термином; но до теоретико-литературного обсуждения самой возможности таких размеров так и не дошло.
[28]
Генезис поэзии того типа, который мы видим в гимнах Романа, был подготовлен эксцессами ритмичности и созвучий-рифмоидов в определенном направлении «азиански» ориентированной риторической прозы. Такой представитель второй софистики, как Гимерий, сознательно хотел реализовать внутри области прозы некоторые специфические возможности поэтической речи. В этом отношении характерна осуществленная им прозаическая парафраза Алкеева гимна Аполлону (oratio 14, I sq.); сам он назвал себя «другом божественного хора поэтов» (oratio 4, 3). Подготавливая византийскую риторическую прозу, но также византийскую церковную поэзию, Гимерий уделял необычное внимание тонической организации текста: два последние ударения фразы у него всегда разделены четным числом безударных слогов, а за последним ударным слогом, как правило, следуют два безударных (Christ, Schmid, Stählin 1913, S. 814—815).
[29]
Один и тот же Феодор Продром (ок. 1100 — ок. 1170), автор разносторонний и умный, называет гимнографа Косьму «поэтом» (ποιητής) и утверждает, что последний писал «без размера» (δίχα μέτρον); см.: Stevenson. Op. cit., p. 492; p. 491, n. 2.
[30]
Aldhelmi De virginitate, 7; ср.: Manitius 1911, S. 140, Anm. 3.
[31]
Luli episto/a 71MCH, Epistolae 3/Ed. Diimmler F., p. 338, 24).
[32]
Еще раз — с оговоркой относительно термина στίχος πολιτικός, имеющего куда более узкое значение (см. выше прим. 27).
[33]
Например, гениальный испанский гуманист Хуан Луис Вивес (1492—1540), друг и единомышленник Эразма, называл новые языки в отличие от латыни — языки Данте и Ариосто, Рабле и Маргариты Наваррской, провансальских трубадуров и Хорхе Манрике — «скотскими и мужицкими», ferinae et agrestes (De tra-dendis, 3), и утверждал, что для женщин лучше было бы дать вырвать себе глаза, нежели читать рыцарские романы (De Christiana femina, 1).
[34]
См.: Гаспаров 1986.
[35]
Здесь поспешим сделать оговорку: как-никак, византийцы читали Фому Аквинского, и читали нередко с одобрением — не только «латиноумствующие» теологи типа Димитрия Кидониса, переводчика Аквината на греческий язык и поборника унии, но и православный патриарх Геннадий Схолярий. Значит, построение разделов «Суммы теологии» не так уж непременно шокировало византийца как читателя; но сам он так писать не хотел и не смел — что нас в данном случае и интересует.
[36]
О различии в методике и интеллектуально-психологической установке споров на схоластическом Западе и в Византии, о попытках определенного направления в Византии перенять западный стиль полемики и о неудаче этих попыток см.: Podskalsky 1977.
[37]
О правомерности такого понятия см.: Медведев 1976.
[38]
Verpeaux 1959.
[39]
Sevcenko 1962.
[40]
История Византии, т. 3, с. 226.
[41]
Там же, с. 242.
[42]
Е. Э. Липшиц и М. Я. Сюзюмовым.
[43]
Se\i:enko. Op. cit., p. 77—87; 87—109.
[44]
См.: Баткин 1976, с. 175—221, специально с. 194—199 (там же дальнейшая библиография).
[45]
Этот энкомий риторическому перелагателю житий святых — лишнее доказательство, что византийская литературная критика не останавливалась перед сакральными жанрами, лишь бы они были по определенным формальным признакам соотносимы с жанрами классической древности. Кстати говоря, если проповедь — по-гречески «гомилия» (см. выше об античной предыстории этого термина), то житие — по гречески «биос», т. е. слово, которое в античные (как и в позднейшие) времена прилагалось к обычной мирской биографии, например к биографиям Плутарха.
[46]
См.: Любарский 1975, с. 114—139; Он же 1978, с. 130—151.
[47]
Scripta minora. Milano, 1941, 2, ер. 224, p. 267.
[48]
Ср.: Любарский 1975, с. 131—132.
[49]
Там же, с. 139—140, прим. 53.
[50]
Там же, с. 132.
[51]
Там же, с. 125.
[52]
Там же, с. 133.
[53]
Там же, с. 131.
[54]
Пселл 1969, с. 145—147, специально с. 147; пер. Т. А. Миллер.
[55]
Любарский 1975, с. 125.
[56]
Там же.
[57]
Пселл 1969, с. 147.
[58]
Ср. главу «Византийская “дружба” и личность писателя» в монографии Я. Н. Любарского (с. 117—124), где красноречиво описан характерный для Пселла примат приватных обязательств над какими бы то ни было общими принципами. «Личные связи и обусловленные ими услуги для Пселла значат больше, нежели строгое исполнение служебного долга» (с. 121). «Пселл и его ближайшее окружение жили в определенном нравственном климате со своими этическими нормами и категориями. Сострадание, душевная мягкость, прощение человеческих слабостей, нравственная гибкость — таков ряд этических категорий, исповедуемых писателем» (с. 123). Именно это и говорит Пселл весьма недвусмысленно в случае Итала: как бы ни был неправ Итал перед риторикой, он (помимо своей правоты перед философией) прав уже одним тем, что пошел в ученики и друзья к Пселлу.
[59]
Правда, там есть еще фраза: «Пусть и Итал получит право быть своеобразным, пусть и он, и всякий другой ученик мой сохраняют, полагаю я, им одним присущие черты» (Пселл 1969, с. 147; пер. Т. А. Миллер). Но, во-первых, фразой этой не «заканчиваются рассуждения об Итале», она не имеет ударного положения в конце речи, но более проходное — в середине; во-вторых, она обесценена тем, что сразу же за ней следует процитированный нами и действительно заканчивающий речь пассаж о «родительских» чувствах Пселла, по причине которых самое уродливое порождение может рассчитывать на любовный прием; в-третьих, в самой фразе речь идет не об ораторах вообще, но об учениках Пселла, т. е. не о правах стилиста как творца, а о снисходительности, благожелательности, даже покладистости и попустительстве Пселла как учителя — и отнюдь не без иронии.
[60]
Любарский 1975, с. 125.
[61]
Там же.
[62]
Горгий 1939, с. 440.
[63]
Anacreontica L, 2.
[64]
Мы имеем в виду весь состав метафорики «Горгия» в целом, где на одном полюсе выстраиваются образы, характеризующие обольстительную приятность риторики (красноречие как «поварское дело для души», 465 Е; ораторы как «льстивые угодники», 466 В и т. д. и т. п.), а на другом со всей резкостью (καίει άγροικότερον τις είπεΐν έστι) речь идет о скрепляющих и связующих рассуждение «железных и адамантовых доводах» (λόγοι 509 А). Далек ли отсюда путь до фразы Пселла?
[65]
По крайней мере, за вычетом чисто механических перелицовок, эксцерп-тов, парафраз и прямо-таки заимствований чужих текстов, каковых у Пселла весьма немало; но последние — например пересказы Гермогена и Дионисия Галикарнасского, о которых говорится в цитированной выше статье Я. Н. Любарского, с. 114—115, — входя в пселловский корпус, не представляют собой продуктов собственного творчества Пселла. Поэтому мы позволили себе говорить обо «всем Пселле», не имея в виду этой части корпуса.
[66]
Scripta minora, 2, ер. 38.
[67]
Любарский 1975, с. 135.
[68]
В обоснование некоторого скепсиса по отношению к паре понятий «спиритуализм — сенсуализм», употребляемых для описания византийского вкуса, см.: Аверинцев 1977, с. 291. прим. 18 со ссылкой на третью главу той же книги.
[69]
Scripta minora. Milano, 1936, 1, p. 102.
[70]
Любарский 1975, с. 135.
[71]
Причем топика полухвалебных, полуиронических превознесений выспренней духовности Мавропода встречается и в других письмах Пселла к этому лицу. Ср.: Любарский 1978, с. 40—48.
[72]
Например, к тому, что Мавропод — уже монах, а Пселл — еще мирянин: именно такую ситуацию предполагает большая часть их переписки.
[73]
Их принадлежность Николаю считается сегодня сомнительной, но возможной. См.: Hunger 1978, Bd. t, S. 92.
[74]
Walz ed. 1832, vol. 1, p. 335.
[75]
ibid., p. 341; 343.
[76]
Lenz 1964, S. 256—271.
[77]
Hunger. Op. cit., Bd. 2, S. 102—104.
[78]
Tuilier 1969.
[79]
В другом месте мы говорили в этой связи: «И ведь речь идет отнюдь не о маленькой словесной безделушке (например, эпиграмме), в тесных пределах которой хитроумный стилизатор еще может как-то вытравить все приметы времени; нет, “Христос-Страстотерпец” — весьма объемистое произведение, создавая которое, кажется, нельзя не выдать себя, не проявить вкусов своего века <...> Конечно, следует оговориться, что в состав трагедии “Христос-Страстотерпец” входит огромное количество стихового материала, принадлежащего не IV и не XII векам н.э., но V—III векам до н.э.; строчки, вынутые из текстов Эсхила, Еврипида, Ликофрона и без изменения вставленные в новую словесную постройку (как в архитектурное целое храма св. Софии Юстинианом включены были колонны старых языческих храмов). Но ведь если художественный организм может так легко принять в себя чужеродные тела, это само по себе о чем-то говорит» (Аверинцев 1973а, с. 154—155).
[80]
Sevcenko 1981, S. 305, Anm. 54.
[81]
Один из относительно благополучных случаев — «Житие Андрея Юродивого», применительно к которому датировки колеблются «всего» в пределах трех столетий — от VII в. (И. Шевченко, С. Манго) до X в. (Л. Риден).
[82]
Ср.: Beck 1974; Hunger 1978a; Sevcenko 1981, S. 199—312.
[83]
Ср.: Beck 1977, S. 30—33. Говоря о Византии, Бек решается довольно энергично переосмыслить понятие декаданса. «Слово “декаданс”, если сообщить ему должную толику иронии, будет едва ли чем-нибудь иным, чем синонимом слова “история”. Но история — действительный мир человека» (там же, с. 32).
[84]
Аверинцев 1973а, с. 153—154.
[85]
Любарский 1975, с. 121.
[86]
Лихачев 1964, с. 15.
[87]
Любарский 1975, с. 122.
[88]
Перевод эссе Пселла «Спросившему, кто лучше писал стихи, Еврипид или Писида», выполненный Т. А. Миллер, см.: Пселл 1975а, с. 171—174.
[89]
Любарский 1975, с. 121.
[90]
Ср. наст, изд., с. 146—157, особенно с. 148.
[91]
Meyer 1905, Ср. также: Wiiamowitz-Moeliendorf, Krumbacherи. a. 1905, S. 213— 214; Dihie, Halpom 1978, S. 38-^12.
[92]
Norden 1898; Schmid 1959.
[93]
Ср.: Zielinski 1904; Bomecque 1907.
[94]
Orat., 212—219; De orat., Ill, 173—198.
[95]
Византийские филологи и грамматики создали немалую литературу по теории метрики. Они неутомимо перерабатывали, пересказывали и разъясняли эксцерпты из «Всеобщего учения о просодии» грамматика II в. Геродиана и из трактата «О метрах» его современника Гефестиона (на основе последнего было создано известное в Византии «Руководство», возможно, восходящее к авторскому извлечению); широко известен был комментарий Георгия Хировоска (VIII в.) к Гефестиону. Михаил Пселл описывал свойства ямбического триметра в дидактическом стихотворении, Тавулярий Критский (XII в.) — в целой небольшой поэме; стихи с такой же тематикой создавали также братья Иоанн и Исаак Цецы (XII в.), Триха (то же время) и др. Темы этих сочинений — ειδη и πάθη гекзаметра и т. п. — унаследованы от античной науки. Вне поля их зрения остается не только, как уже было сказано, весь мир новых поэтических ритмов, основанных на силлабике и экспираторном ударении, но и круг явлений в традиционной метрической просодии, стоящих под знаком компромисса между метрикой и тоникой.
Еще в V в., в преддверии византийской эпохи, Нонн преобразовал гекзаметр, резко ограничив употребление ставших непонятными для уха спондеев и сделав в конце стиха обязательным совпадение стихового «икта» и тонического ударения. В этом же направлении пошла метаморфоза другого классического размера, удержавшего свои позиции в византийской поэзии, — ямбического триметра: вытеснению спондеев там отвечало полное элиминирование так называемого распуще-ния долгот, а в конце стиха тоже воцаряется парокситональная клаузула (в наших терминах — женская). Иной клаузулы византийская светская поэзия вообще не знает (см.: Hunger 1978, Bd. 2, S. 91). Однако все эти новые правила, поведшие к существенной трансформации традиционных метров — настолько существенной, что современные исследователи предпочитают говорить не о византийском ямбическом триметре, а о «византийском двенадцатисложнике» как особом силлабическом размере, лишь развившемся из триметра, — не учитываются византийскими компендиями по метрике. Авторы последних предпочитают делать вид, что ничего не произошло. Михаил Пселл в своем синкрисисе Еврипида и Писиды отмечает, правда, что «размеры и ритмы от времени приобрели тысячи особенностей» (пер. Т. А. Миллер), но говорит об этом весьма невразумительно; у нас даже нет полной уверенности, что эти слова действительно относятся к византийскому состоянию традиционных метров, а не воспроизводят какое-то наблюдение, сделанное еще в позднеантичную, если не в эллинистическую эпоху. Во всяком случае, современным исследователям судеб античных размеров в византийской литературе приходится обойтись без всякой помощи византийских теоретиков стиха; и это обстоятельство симптоматическое.
[96]
Spengel—Hammer ed. 1894, vol. ί, p. 208, 1.
[97]
Как известно, слово «катена» (по-латыни «цепь») применяется к определенному типу сводного комментария на библейские книги, известному и в Византии, и на средневековом Западе. О рукописной традиции комментирования текстов Гермогена см.: Hunger 1978, Bd. 1, S. 80.
[98]
См. заметку «Суды» о Гермогене.
[99]
Этот позднеантичный ритор, как известно, поразил воображение своих современников необычайно ранним расцветом своего декламационного дарования — в пятнадцать лет он уже выступал перед императором Марком Аврелием, — а также быстрым упадком этого дарования еще в молодые годы. О его теоретических взглядах см.: Glöckner 1901; Hagedorn 1964. Ср.: Radermacher 1912, col. 865—877.
[100]
См.: Stegemann 1932, col. 1975—1986.
[101]
См.: Glöckner. Op. cit., p. 26—44.
[102]
Холодный тон Филострата, рассказывающего в «Жизнеописаниях софистов» о карьере Гермогена как вундеркинда-декламатора (см. выше прим. 98), но даже не упоминающего о его творчестве как теоретика; полученное Гермогеном в мире риторских школ прозвище ξοστήρ — «чесун», или «скребница», во всяком случае нечто непочтительное («Суда», та же статья); обилие раздраженных выпадов против коллег у самого Гермогена — все это наводит на мысль, что при жизни Гермогена и сразу после его смерти его влиятельности мешали личные его конфликты с профессиональной средой. Но чем дальше в прошлое отходила эпоха Гермогена, тем меньше могло нерасположение к его личности влиять на отношение к его наследию; время неуклонно работало на него.
Любопытно отметить, что популярность Минукиана в близких ему поколениях тоже, по-видимому, стимулировалась личными причинами: как родич Плутарха Херонейского, он был воплощением того, что Плиний Младший в известном письме к Максиму назвал «подлинной и беспримесной Грецией» (кн. VIII, 24, 2) в противоположность эллинизированному Востоку, и вдобавок состоял, так сказать, в родственных отношениях с афинской Академией, чтившей Плутарха; как преподаватель риторики в Афинах, занимавший там кафедру, учрежденную императором Адрианом, и, что немаловажно, как предок другого афинского преподавателя риторики — софиста Гимерия (IV в.), он был своим человеком и для афинских риторов, и для афинских неоплатоников, вообще для всей преподавательско-студенческой среды Афин, которая пользовалась для образованных людей империи таким престижем в годы учения Василия Великого, Григория Богослова и Юлиана Отступника, символом местного патриотизма этой среды. Но по мере того, как Византия становилась Византией, престиж Афин падал. В 529 г. Юстиниан закрыл афинскую Академию, между тем как риторика даже традици-онно-языческого направления цвела к этому времени не в Афинах, а в Газе, на побережье Палестины. Пройдет еще несколько веков, и Иоанн Геометр напишет эпиграмму:
Кичитесь вашей древностью, афиняне, —
Сократами, Платонами, Пирронами,
И славьте с Эпикуром Аристотеля;
А нынче вам остался лишь гиметтский мед,
Да тени предков, да могилы славные;
А мудрость — та живет в Константинополе.
Время работало против Минукиана — в числе других причин еще и по этой.
[103]
Kustas 1973, р. 5—26.
[104]
Ibid., р. 12.
[105]
По свидетельству словаря «Суда», статья о Порфирии.
[106]
Кустас особо ссылается в этой связи на переоценку темноты слога (ασάφεια): см. место, процитированное в прим. 104. Действительно, Аристотель безоговорочно видел в ясности — «достоинство слога» («Риторика», кн. III, 2, 1404в2, «Поэтика», 22, 1458а18), а в неясности — его порок. Нельзя отрицать, что с позицией Аристотеля явственно контрастирует позиция многих византийских теоретиков риторики. Например, Иоанн Доксапатр (XI в.) заявляет: «Не всякая темнота есть уже и порок речи: часто она бывает, напротив, достоинством» (Walz ed., vol, 2, p. 226). Примерно поколением раньше (см.: Hunger 1978, Bd. 1, S. 83 u. Anm. 57—58) Иоанн Сикелиот говорил о «достохвальной темноте» έπαινουμένη ασάφεια (см.: Walz ed., vol. 6, p. 199).
Но причем здесь специально Гермоген? Кустас не приводит никаких данных, которые свидетельствовали бы, что византийская доктрина о темноте как достоинстве восходит именно к нему; гермогеновский список качеств речи, так называемых идей, открывается, как назло, упоминанием «ясности» и не содержит никакого упоминания «темноты».
И еще два замечания к критике концепции Кустаса, в которой интеллектуализм и рационализм Аристотеля характеризует античную риторику в целом, высказывания отдельных византийских теоретиков в пользу «темноты» характеризуют мистический дух византийской риторики тоже в целом, и начало господства последнего отождествляется с творчеством Гермогена. Во-первых, Аристотель — вовсе не нормальный представитель античной риторической традиции, а скорее выразитель протеста против нее; его риторика — это риторика философа, полемически противостоящая риторике риторов (ср. рассказ о его выпадах против Исократа). Отнюдь не для всех античных теоретиков ясность — это ценность превыше всех ценностей. Вот выхваченный наудачу пример из «Письма к Помпею» Дионисия Галикарнасского: «Третье по порядку — так называемая сжатость (συντομία). В этом, кажется, Фукидид превосходит Геродота. Мне могут возразить, однако, что сжатость хороша только в сочетании с ясностью, а без нее она вызывает досаду. Однако не будем думать, что стиль Фукидида от этого становится хуже (776, пер. О. В. Смыки, см.: Античные риторики, с. 229).
Не будем говорить о теории «возвышенного» у Псевдо-Лонгина, оставляющей весьма мало места для культа ясности любой ценой, потому что загадочный трактат неизвестного ритора I в. н.э., оказавший такое влияние на новоевропейскую эстетику, стоит в истории античной риторической традиции особняком; но самая возможность такого исключения о чем-то говорит. Во-вторых, что касается византийской риторики, то для нее реабилитация уместной темноты не особенно типична и отнюдь не идет рука об руку с мистическим настроением. Иоанн Геометр, Иоанн Доксапатр и Иоанн Сикелиот (кстати говоря, люди одной эпохи и представители одной традиции, поскольку Доксапатр в своем цитированном выше рассуждении прямо ссылается на Иоанна Геометра, да и Сикелиот, по-видимому, от него зависим, хотя по своему обыкновению не склонен говорить о своих источниках, — ср.: Hunger. Op. cit.) образуют компактную и малочисленную группу и не могут представлять византийской риторики в целом; и едва ли они более «мистичны», нежели патриарх Фотий, который был энергичным поборником ясности слога и, между прочим, укорял еретика и рационалиста (!) Евномия за злонамеренное пользование стилистическими темнотами (Bibliotheca, cod. 138, 98а5—11; Kustas. Op. cit., p. 139, η. 6).
[107]
Ср.: Лосев I960, с. 379—398, специально с. 397—398.
[108]
Ср.: Kustas. Op. cit., p. 7, η. 2.
[109]
Schissei 19Z7, S. 372.
[110]
См.: Richter 1926, S. 164—165; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 77.
[111]
Kustas. Op. cit., p. 11—12.
[112]
К понятию византийского синтеза, преобразовывавшего самое существо входивших в него элементов старой культуры, ср. нашу работу: Аверинцев 1977, с. 109—128, 142—144, 237—249 и др.
[113]
По этой причине Порфирий и неоплатоники афинской школы отвергали Гермогена; но даже приверженцы последнего из числа александрийских неоплатоников, включая Сириана, ощущали необходимость комментирующего исправления и дополнения Гермогена, которое выправило бы его дефиниции по нормам аристотелевской логики. Ср.: Richter. Op. cit., S. 164—165.
>114 Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 81—82.
>115 Brinkmann 1910, S. 617—626, Text 618; Zintzen 1967, S. 2—3.
[116]
Kustas. Op. cit., p. 19—20; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76. Если Хунгер сдержанно подвергает сомнению прогимназм, Кустас уверенно говорит об обеих первых частях гермогеновского сборника, как о «подложных попытках, с которыми имя Гермогена оказалось связанным в V в.». В научной литературе обсуждалась также возможность неподлинности трактата «О том, как достичь мощи».
[117]
Ср. прим. 98.
[118]
Сириан знает только три последние части гермогеновского сборника. См.: Kustas. Op. cit., p. 20.
[119]
См.: Walz ed., vol. 5, p. 222—576; Hunger, Op. cit., Bd. 1, S. 79.
[120]
В частности, на так называемого Rhetor Monacensis, писавшего в XIV в. и исключительно высоко оцененного Г. Рабе (Rabe ed. 1926, p. XIX).
[121]
То есть совмещения «словесной хрии» (понятие, более или менее равнозначное понятию «гнома», а если и отличное от него, то по признакам, по-разному выделявшимся у разных теоретиков) и «деятельной хрии», где сентенция была заменена равнозначным ей, т. е. сугубо семпотизированным действием, поступком, многозначительным и «говорящим» жестом.
[122]
По типу «Диоген, увидев мальчика, чинившего безобразие, ударил его дядьку, примолвив: “Вот как ты его воспитываешь!”»( Walzed., vol. 1, p. 272—274).
[123]
По типу афористического стиха Еврипида: «Один совет сильнее многих рук» (Ibid., р. 278—279).
[124]
Ср. нашу статью «Древнегреческая поэтика и мировая литература» (наст, изд., с. 146—157, специально с. 152—153).
[125]
Ср.: Ernesti 1795, p. 297.
[126]
Walzed., vol. 1, p. 235—239; Ibid., p. 44—47.
[127]
Ibid., p. 27—28; 35—42; Ibid., p. 72—76 et 77—80; 86—92 et 93—97; cf.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
[128]
Hunger 1978, Bd. 1, S. 76.
[129]
Наст, изд., с. 158—161; Awerintzew 1981, S. 9—14.
[130]
В наст. изд. с. 296—301.
[131]
Ср.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
[132]
Kustas. Op. cit., p. 42, η. 1 ad p. 41. В подкрепление своей (отнюдь не бесспорной) характеристики положения вещей на латинском Западе Кустас ссылается на слова одного исследователя средневековой теории проповеди: «Самое богатое наследие, завещанное средневековой риторике античной эпохой, — это принцип употребления топоса, общего места, принцип художнического “нахождения” нужного довода, доводимого до нужной аудитории в нужных обстоятельствах» (Caipan 1933, р. 86).
[133]
См.: Рубцова 1986.
[134]
См.: Nadeau 1959, р. 51—71; Barwick 1964, S. 80—101.
[135]
Нам приходилось говорить выше (с. 270) о «возрастающем дроблении классификации типов риторической словесности».
[136]
Hunger. Op. dt., Bd. 1, S. 76.
[137]
Ср.: Нотте/ 1978, S. 134.
[138]
Kustas, Op. cit., p. 12—18.
[139]
Нотте/. Op. cit., S. 134.
[140]
Как известно, термин «шероховатость» (τραχύτης) в греческой риторической традиции имеет отнюдь не порицательный смысл: в приложении к стилю он обозначает, по удачной формулировке А. А. Тахо-Годи, «суровую неприступность, нагроможденность и даже неотесанность каменных глыб» (Античные риторики, с. 335). Дионисий Галикарнасский в своем трактате «О соединении слов» так характеризует эту тенденцию: «...строгое построение имеет вот какой характер. Хочет оно, чтобы слова утверждались прочно, стояли крепко, чтобы каждое было видно издали и чтобы куски речи отделялись друг от друга заметными паузами. Столкновения шероховатые и противные слуху оно допускает нередко и относится к ним безразлично: так при кладке стен из отборных камней в основание кладут камни неправильной формы и неотесанные, дикие и необработанные. Оно любит растягиваться как можно шире за счет больших размашистых слов; а стеснять себя краткостью слогов ему противно, разве что по необходимости» («De compositione verborum», пер. М. JI. Гаспарова; см. в том же издании, с. 204). На идеал намеренной «шероховатости», каким его разработала греческая риторика, еще в пушкинскую эпоху ориентировались русские архаисты типа Кюхельбекера, протестуя против «приятности» и «гладкости» карамзинистов. Наиболее известные примеры намеренной и эстетически содержательной «шероховатости» в русской литературе последних веков: ода Радищева «Вольность», и прежде всего знаменитая строка «Во свет рабства тьму претвори»; «заржавленный» стих Вячеслава Иванова; «расскрежещенный» стих Маяковского.
[141]
Kustas. Op. cit., p. 13.
[142]
Hagedorn 1964, S. 53.
[143]
Kustas. Op. cit., p. 14.
[144]
Platonis Timaeus, 28 c.
[145]
Rabe ed. 1913, vol. 6, p. 216, 16; cf. ibid., 217, 9.
[146]
Rabe ed. 1935, vol. 14, p. 390, 12.
[147]
Пселл 1975, с. 165; пер. Т. А. Миллер.
[148]
Риторика, и в особенности грекоязычная риторика, рассматривает все сущее, так сказать, с презумцией изумительности, как качества, присущего любому ее предмету. Ритор принужден находить то, о чем он говорит, изумительным, иначе он просто не может говорить. Платон сказал, что удивляться — состояние, присущее философу (Platonis Theaetetus, p. 155d); но это состояние, столь же неизменно присущее ритору. Конечно, между философским и риторским родами изумления — огромная разница, едва ли не противоположность. Изумление философа эвристично и помогает делать мир более прозрачным; изумление ритора — патетическая осанка, помогающая делать мир более выразительным. В византийской культуре установка ритора на изумление перед своим предметом вступало в сложные отношения с принципиальным парадоксализмом христианской веры, о чем нам приходилось говорить в другом месте: Аверинцев 1977, с. 144.
[149]
Пселл 1975, с. 162.
[150]
Aristotelis Metaphysica, lib. XI, cap. t, 1059 b; пер. А. В. Кубицкого (см.: Аристотель 1976, с. 273).
[151]
Наст, изд., с. 151.
[152]
Говорить о том, что некое общее и фундаментальное явление человеческого бытия заново «открыто» в такую-то эпоху гуманитарным сознанием — это одно из самых неизбежных, но также из самых рискованных, чреватых опасностями, сомнительных утверждений, которые только может позволить себе историк культуры. Следовало бы каждый раз возможно скрупулезнее уточнять: «открыто» — для чего? для эмоционального обживания? для аналитической мысли? для какого именно уровня того и другого? В иных, негуманитарных областях понятие «открытия» обладает четким смыслом: хотя в Китае размножали книги полиграфическим способом до Гуттенберга, а викинги побывали на американском континенте до Колумба, всем ясно, что значит «открыть Америку» или «открыть книгопечатание». Но если Я. Буркхардт охарактеризовал в 1859 г. смысл Ренессанса как «открытие мира и человека», объем этого понятия заведомо неясен; каждая культурная эпоха и до Ренессанса, и после Ренессанса по-своему «открывала» и мир, и человека, только границы значения каждого из трех слов — «открытие», «мир», «человек» — для каждой эпохи иные. Если античная риторическая теория так много занималась — например, в лице Дионисия Галикарнасского — проблемой индивидуальной манеры (χαρακτήρ) того или иного аттического оратора, бесполезно говорить, что авторская индивидуальность не была ею «открыта» (ср. наши замечания: наст, изд., с. 28.). Этому нимало не противоречит, что реальность, отыскиваемая ею в феномене индивидуальной манеры, за ним, — всякий раз «абстрактно-всеобщая». Со времен Дионисия Галикарнасского и его византийских наследников до нашего времени литературная теория прошла очень длинный путь по направлению к индивидуально-конкретному, но было бы неправдивым отрицать, что в профессиональной жизни каждого из нас, литературоведов, бывают моменты, когда мы по совести должны были бы повторить о ком-либо из великих писателей, являющимся предметом наших занятий, слова Пселла о Григории: «Приемов, от которых у него обычно зависит неописуемая красота, я не могу уловить и только по неосознанному опыту сужу об этом...» (Пселл 1975, с. 165).
[153]
Любарский 1975, с. 125.
[154]
Там же (со ссылкой на работы Кустаса).
[155]
Это Метрофан из Эвкарпии Фригийской, Менандр Лаодикийский, Евагор и Акила (III в.), Тиранн, Юлиан, Сирикий из Неаполиса Самарийского (Наблуса), Павел Египтянин, упоминаемый «Судой», Епифаний Петрейский (IV в.). См.: Hunger. Op. dt., Bd. t, S. 80.
[156]
Rabe ed. 1935, vol. 14, p. 171—183.
[157]
Ср.: Hunger. Op. eit., Bd. 1, S. 80, Anm. 34.
[158]
Rabe ed. 1892—1893, vol. 1—2.
[159]
Например, возникший в конце V в. или в начале VI в. комментарий египетского ритора Фебаммона на трактат Гермогена «О статусах».
[160]
Например, читанные в александрийской высшей школе лекции ритора Георгия Моноса с толкованиями на гермогеновский корпус (Codex Parisinus 2919). Из общего числа 54 лекций до сих пор опубликована только одна, да и то в сокращении: Schilling 1903, р. 671—676.
[161]
Ср.: Kustas. Op. cit., p. 19—20; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 81—82 (в обоих изданиях — подробная библиография вопроса).
[162]
Ср., напр.: Липшиц 1961, с. 261—262 и др; Mathew 1963, р.122—123; Le-merle 1962, с. 7.
[163]
См.: List 1939.
[164]
Rabe ed. 1928, vol. 15.
[165]
Kindlers Literatur-Lexikon, S. 1509.
[166]
Ср.: Kustas 1962, p. 132—169; 2iegier 1941.
[167]
Kustas 1973, p. 20—21.
[168]
Эти натяжки в основном связаны с совершенно безнадежными попытками Кустаса отыскать и у Гермогена, и у Фотия позитивное отношение к отсутствию ясности (о чем шла речь выше, при обсуждении вопроса о соответствии между торжеством гермогеновской доктрины и неоплатонизмом).
[169]
Kustas 1973, р. 25, 35—36, 66, 139—140.
[170]
Photii Bibliotheca. 3ab, cod. 4—6.
[171]
Ibid., 6b, cod. 32.
[172]
Ibid., 67b, cod. 90.
[173]
Ibid., 96ab, cod. 128.
[174]
Это тема заключительной части заметки Фотия о Лукиане.
[175]
Напр., 15b, cod. 56; 94а, cod. 121; 94b, cod. 126; 117b, cod. 171, etc.
[176]
97b—98a, cod. 138.
[177]
Неоплатонический философ V в. Прокл воспринимается через семь веков Николаем Мефонским как живой противник; специальное сочинение Николая посвящено обстоятельному опровержению Прокловых «Основ богословия» (ср.: Podskalsky 1976). Своему еретическому оппоненту Сотириху Пантевгену Николай инкриминирует неоплатонические тенденции и с одобрением цитирует в полемике с ним аристотелевскую критику учения об идеях. Характерно, что богословская позиция Николая (прежде всего в его «Вопросах и ответах») выдает влияние Фотия. См.: ФЭ, т. 4, с. 71—72.
[178]
Характерна резкость, с которой Фотий высказывается о «крайнем нечестии», о «невозможных, недостоверных, дурно измышленных и вздорных бреднях» одного из последних неоплатоников, языческого мистика Дамаския (125Ь— 126а, cod. 181; 96а, 130). И то сказать, византийское тысячелетие, открывшееся борьбой между христианством и неоплатонизмом, завершается явлением Гемиста Плифона, выступившего против христианства во имя того же Платона; а в промежутке наиболее неблагонадежные для православия мыслители, как Иоанн Итал, Михаил Пселл, тот же Сотирих Пантевген — платоники. Православию пришлось анафематствовать ряд концепций платонизма, как-то: учение об идеях, о метемпсихозе и т. п. (см.: Успенский 1893, с. 14—18; Лосев 1930, с. 846—849), но не приходилось специально анафематствовать аристотелизм. «Церковь усвоила себе аристотелевское направление и с конца XI до конца XIV века поражала анафемой тех, кто осмеливался стоять за Платона» (Успенский 1892, с. 346).
[179]
Ср., напр., высказывания Дионисия Галикарнасского: «...когда же Платон безудержно впадает в многословие и стремится выражаться красиво, что нередко с ним случается, его язык становится намного хуже, он утрачивает свою прелесть, эллинскую чистоту и кажется более тяжелым. Понятное он затемняет, и оно становится совершенно непроглядным; мысль он развивает слишком растянуто; когда требуется краткость, он растекается в неуместных описаниях. Для того, чтобы выставить напоказ богатство своего запаса слов, он, презрев общепонятные слова в общеупотребительном смысле, выискивает надуманные, диковинные и устаревшие слова... Ребячливо и неуместно красуется он поэтическими оборотами, придающими его речи крайнюю нудность... Я осуждаю его за то, что он внес в философские сочинения выспренность поэтических украшательств в подражание Горгию, так что философские труды стали напоминать дифирамбы, и притом Платон не скрывает этот недостаток, а признает его...» (Ad Pompaeum. II, 759—760 и 764; пер. О. В. Смыки; см.: Античные риторики, с. 225—226). Поразительно содержательное и вербальное сходство этого пассажа с критикой стиля Евномия у Фотия: в обоих случаях идеал школьной правильности, меры, уместности, соразмерности, а прежде всего — ясности и толковости противопоставлен порицаемому «дифирамбу»: экстатичности, темноте, размытости граней между прозой и поэзией. Вот что мы видим: Фотий, самый значительный, самый характерный и самый влиятельный литературный критик Византии, подхватывает традицию именно этого — так сказать, трезвого — направления античной риторики; он энергично высказывается за чувство меры против безмерности, как это делал в свое время Дионисий Галикарнасский. Сходство усугубляется тем, что последний отстаивал от опасности «дифирамба» философскую прозу; Фотий делает то же самое с богословско-догматической прозой, явлением в жанровой плоскости очень близким. Об этой историко-культурной параллели стоит задуматься.
[180]
Arethae scripta minora, 87v, XXI (Westerink 1, p. 203>2—3). Памфлет Арефы против Льва Хиросфакта был в свое время издан по-гречески и переведен в СССР (Шан-гин 1945, с. 228—249). К сожалению, перевод оставляет желать лучшего (уверенность М. А. Шангина, что он издает текст, до него не издававшийся, также не вполне отвечала реальности. См.: Compemass 1912, S. 295—318. Однако заслуга Шангина, во всяком случае, состояла в том, что он привлек к памфлету Арефы внимание отечественной науки (ср.: История Византии, т. 2, с. 182 и 358—360; Фрейберг, Попова 1978, с. 29).
[181]
Arethae scripta minora, 9Г, XXI (Westerink I, p. 212>22).
[182]
Ibid., 88^, XXI (Westerink I, p. 204>15-'>6, 204>29—205>4).
[183]
Как известно, во времена Крумбахера некий доктор филологии из Бонна вопрошал, как вообще можно заниматься эпохой, в текстах которой предлог από употребляется с винительным падежом!
[184]
Диглоссия (двуязычие), характеризующая литературу и жизнь Византии и перешедшая в Новое время как борьба «кафаревусы» и «димотики», в конечном счете восходит ко временам второй софистики, когда в жизни господствовало койнэ, а в литературе искусственно реставрировался аттический диалект.
[185]
Krumbacher 1897, S. 663.
[186]
Hunger. Op. cit., Bd., S. 452—453.
[187]
Ср.: Ibid., S. 448—449.
[188]
Mango 1975, p. 5—6.
[189]
Amphilochia, 92, PG, 101, 585 А; 111, ibid., 653 D.
[190]
Bibliotheca, 170b, cod. 165 (речь идет о Гимерии).
[191]
Ibid., cod. 172—174. Ср.: Kustas 1973, p. 62.
[192]
Biblioteca, 126a, cod. 181.
[193]
ibid., 126ab, cod. 181.
[194]
Ibid., 156b, cod. 192(A).
[195]
ibid., 156b—157a, cod. 192(A).
[196]
Ibid., 157а, cod. 192(A).
[197]
Ср.: Аверинцев 1979, с. 41—81, особенно с. 61—67.
[198]
Об этом нам приходилось говорить дважды; см.: Аверинцев 1973, с. 98—
106 и наст, изд., с. 347—363.
[199]
См.: Podskalsky 1977.
[200]
ICor., I, 17.
[201]
"Гμνος ’Ακάθιστος, οίκος 9 (Trypanis 1968, S. 36).
[202]
Rabe ed. 1935, p. 80>12~>16; ibid., p. 394>,2->u.
[203]
Amphilochia, CIX, PG, 101, col. 697 D.
[204]
Cm.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 83—84.
[205]
Ср.: Κονρκούλας 1957.
[206]
См.: Hunger. Op. dt., Bd. 1, S. 85.
[207]
Cm.: Widmann 1936, S. 12—41; 241—286 (вступительная статья, критический текст, перевод и аналитический историко-литературный комментарий с разбором особенностей риторической практики).
[208]
Rhetorica I, 2, 1356b; II, 22, 1395b—1396а et passim.
[209]
Vitae sophistarum, praefatio, I, 1.
[210]
Ср.: наст, изд., с. 158—190.
[211]
1ST, VI, 204.205.207 (Widmann. Op. cit., S. 21).
[1]
«Любовь, что движет солнце и светила». Пер. М. Лозинского.
[2]
Максим Грек 1910, с. 142.
[3]
Киреевский 1911, с. 237.
[4]
Там же, с. 238.
[1]
Единственный пример сходного словоупотребления был подан в Англии, на которую столь часто оглядывались энциклопедисты: Ephraim Chambers, Cyclopaedia, v. i—Η, 1728. Как известно, французская «Энциклопедия» родилась из более скромного замысла издателя Jle Бретона — переработать перевод труда Э.Чэмберса. Обычным заглавием для энциклопедического издания в XVII и XVIII вв. было «словарь» (например, знаменитые «Dictionnaire historique et critique» П. Бейля, 1695—1697, и «Dictionnaire philosophique» Вольтера, 1764—1769) и «лексикон» (например, «Lexicon technicum» Гарриса, 1704).
[2]
De institutione oratoria, lib. I, с. 1, 10.
[3]
De comparatione verborum, 206; cf. delhucydide, 50 εγκύκλια μαθήματα — синоним έγκύκλιος παιδεία. Если верить Диогену Лаэртскому (lib. VII, с. 32) об έγκύκλιος παιδεία говорили уже во времена стоика Зенона, т. е. в конце IV в. до н.э.; неясно, однако, насколько достоверна информация Диогена и говорит ли она о наличии самого термина или только понятия. Ср.: Kühnert 1961, S. 6—7.
[4]
Platonis Hippias minor, p. 368 bd; Protagoras 318 df; Hippias maior 285 b sgg.
[5]
Ср.: Koller 1955, S. 174—189; Kühnert. Op. cit., S. 7—18, где приведена дальнейшая библиография.
[6]
Ср.: Wieland 1958, S. 323—342. Плутарх соединяет έγκύκλια καί κοινά как синонимы (De audiendo, с. 13, 45 с.).
[7]
D’Alembert 1894.
[8]
Ср., напр.: Nestle 1931, S. 1—22; Amim 1916; Geffcken 1923, S. 15—31; Saitta
1938.
[9]
Сопоставление Руссо с Сократом лежало на поверхности. Достаточно вспомнить стихи молодого Шиллера на могилу Руссо (1781).
[10]
Представление о некоей симметрии между фигурами Платона и Канта тоже лежит на поверхности. Вот несколько примеров, взятых наугад. «Относительно вопроса о началах и сущности науки вся история философии разделяется на две неравные эпохи, из которых первая открывается Платоном, вторая — Кантом» (Юркевич 1865, с. 323). «Основоположное философское открытие сделано Платоном и Кантом ...» (Бердяев 1947, с. 15). «Оба были узловыми пунктами, в которых сходились и из которых расходились философские течения... Платон и Кант относятся между собою, как печать и отпечаток; все, что есть у одного, есть и у другого» (Флоренский 1977, с. 126). «Что касается Платона, то его скорее можно сравнить с Кантом... Платон, как и позднее Кант, дал философское обоснование математики» (Гайденко 1979, с. 98 и 99).
[11]
Pantagruel, chap. 20 (ed. par L. Moland, p. 168).
[12]
«La Raison par alphabet». Genöve, 1769; Dictionnaire philosophique, ou La Raison par alphabet. Londres, 1770.
[13]
Liguori 1753—1755; Deierue 1929.
[14]
Diderot 1962.
[15]
Ranae, 1477—1478:
τίσ οιδεν εί το ζην μέν έστι κατθανεΐν, τό πνεΐν δε δειπνείν, τό δε καθεΰδειν κώδιον;
(Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, дышать — попойка, а почить — овчинка?)
В стихах 1080—1082 той же комедии Еврипид укоряется за то, что через своих персонажей подал гражданам и специально гражданкам примеры крайнего кощунства: «и рожать в святилищах, и любиться с родными братьями, и говорить, что жизнь — это не жизнь» (ού ζην το ζην).
[16]
По другому чтению — «у смертных».
[17]
Fragm. 639 Nauck (cf. fragm. 830 Nauck).
[18]
Отрицание наивного равенства себе понятий жизни и смерти, игра мысли и игра слова вокруг этого отрицания — это распространенное «общее место». В разрыве инерции общепринятого были заинтересованы не только рационалисты, но также их наиболее крайние противники — мистики, тоже склонные к установке на разоблачение видимости и вскрытие парадоксального несоответствия между ней и сущностью, на отталкивание от естественного восприятия вещей. Яркий пример — слова Хуана де ла Крус: «mueroporquenomuero», т. е. «я умираю от того, что не умираю» (смысл — отсутствие физической смерти составляет преграду на пути к вечной жизни и постольку является в некотором смысле духовной смертью; см.: Spanish Verse, p. 182—185; иногда стихотворение приписывается Тересе из Авилы). Цветаева хорошо знала цену высокой риторике. В ее «Новогоднем» сказано: «...Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть...» Позднее она оспаривала старое общее место: «...И что б ни пели нам попы,// Что смерть есть жизнь, и жизнь есть смерть...»
[19]
Epitres, CIV. А l’auteur du livre des Trois Imposteurs, v. 22.
[20]
Ср.: Панченко 1980, с. 144—162.
[21]
Diets 1922, Bd. II, Kritias В 25, S. 319—321.
[22]
Как известно, еще в 1740 г. пожелания, исполненные в дальнейшем изданием «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, были высказаны главой парижской масонской ложи герцогом Д’Антеном; издатель Jle Бретон, приступивший к организационной работе, также был членом ложи. См.: Venturi 1963.
[23]
Wieland 1799.
[24]
Имеются сведения, что первоначально И. Шиканедер, автор либретто, наделял двух главных магов оперы иными характеристиками; в это легко поверить: добро и зло здесь нетрудно поменять местами.
[25]
Textes choisis de t'Encydopedie.
[26]
Licurgus, с. 6, 9, 43d; с. 27; Numa, с. 4; с. 8, с. 15.
[27]
Ср.: Momigiiano 1975, p. 92—95, 120—122.
[28]
См.: Мелетинский 1982, с. 25—28 (имеется дальнейшая библиография).
[29]
Numa, с. 4 (Плутарх 1961, т. 1, с. 81).
[30]
«...On а besoin d’un Dieu que parle au genre humain» («Нужен Бог, который говорил бы к роду человеческому»), — сказано в поэме Вольтера о лиссабонском землетрясении.
[31]
«Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства» (Кант 1897, с. 38. Этот перевод точнее нового).
[32]
Один пример из многих — те дерзкие предположения об устройстве космоса, характерные для поздней схоластики, которые подготавливали исподволь новую картину мира, но имели эмпирической исходной точкой догмат о всемогуществе Божием.
[33]
Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см.: Аверинцев 1976а, с. 23—27.
[34]
Впрочем, мы слишком легко забываем об определенных зонах средневековой литературы, где античные жанровые формы сохранялись и воспроизводились с замечательной верностью; достаточно вспомнить явление латинского овидианст-ва во Франции XI—XII вв. Инвариантом в составе античной, средневековой, ренессансной и барочной литератур была жанровая форма эпиграммы (ср.: наст, изд., с. 158—190).
[35]
Точнее: средневековая литература была таковой в той мере, в которой она сознательно строила себя и воспринималась в качестве художественной литературы (см. наст, изд., с. 154—155, прим. 1).
[36]
Ср. наст, изд., с. 147—148.
[37]
Этому общему положению не противоречат черты нового, выявлявшиеся у мыслителей вроде Буридана (см. выше прим. 32), Как бы значительны они ни были, они до поры до времени остаются на периферии.
[38]
Norden 1898, Bd. 2.
[39]
Уместно вспомнить семантическую амплитуду слова λόγος от бытового λόγον διδόναι «давать отчет» до λογική «логика».
[40]
«Вся философия есть “критика языка” »(Витгенштейн 1958, с. 44, § 4.0031).
[41]
Сюда же относится, конечно, грамматическая наука. Достаточно упомянуть учебник Дионисия Фракийца (2-я пол. II в. до н.э.).
[42]
«Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» («Aristotelis Metaphysica», lib. XI, с. 1,р. 1059Ь25, пер. А. В. Кубицкого. Аристотель 1976, с. 273).
[43]
Ср. наст, изд., с. 158—190.
[44]
Ср.: Dempf 1964.
[45]
«Thomae Aquinatis Summa theologiae», р. 1, q. 2,3 c.
[46]
«Aristotelis Metaphysica», lib. XII, c. 7, p. 1072b.
[47]
Ibid, р. 1073а.
[48]
См.: Аверинцев 1984, с. 48—49.
[49]
Рафаэль дважды изобразил именно такой диспут на двух фресках Станца делла Сеньятура: один раз это диспут теологов, другой раз («Афинская школа») — философов. На третьей его фреске в этом же зале («Парнас») изображено вневременное состязание поэтов.
[50]
Dante 1962, v. 3, p. 351 (Appendix DC: Astronomy in Paradise).
[51]
«Apulei Florida», 20.
[52]
Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см. наст, изд., с.357—
[53]
Maistre 1837, р. 124—125 (9-me entretien).
[1]
Hieran, ер. XXII, 30.
[2]
Petrarca 1906, р. 79.
[3]
Daniel 1862, р. 266:
Ad Maronis mausoleum Ductus, fudit super eum Piae rorem lacrimae;
Quern te, inquit, reddidissem,
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime!
[4]
Иная точка зрения — у A. X. Горфункеля (Горфункелъ 1977, с. 72): «Подобная “христианизация” языческого мыслителя означала высшую меру оправдания. Данте избавил античных поэтов и мудрецов от адских мучений. Петрарка готов включить их в свой “пантеон”». «Пантеон» — в данном контексте слишком сильное слово: сказать, что если бы языческий мудрец ознакомился с христианством, он признал бы его превосходство над своей мудростью, — не совсем то, что поставить его мудрость наравне с христианством или хотя бы в один ряд с ним. Но самый важный практический вопрос при выяснении историко-культурной специфики Петрарки как человека Ренессанса сравнительно с его средневековыми предшественниками — это вопрос о том, как выглядит данное место на фоне аналогичных мест христианской литературы предыдущих эпох. К сожалению, в талантливой книге A. X. Горфункеля он даже не ставится: отсчет ведется прямо от Данте.
[5]
Lagarde ed. 1881.
[6]
Hieran, ер. LIV, 7.
[7]
August, ep. CLXTV, 4.
[8]
Lact. Inst, dlv., IV, 24.
[9]
Tert. De anima, 20.
[10]
Barlowed. 1938.
[11]
Hieran. De viris illustr., 12.
[12]
Лосев 1930, с. 804: «Платонизм есть философия монашества и старчества. Монашество и старчество — диалектически необходимый момент в платоновском понимании социального бытия».
[13]
Например, в своем учении о брачной верности, требуемой не только от женщины, но и от мужчины, и притом таким образом, что знать в своей жизни только одну женщину, — для него не просто долг, но счастье (Cato iunior, 7, 3).
[14]
«Quant au Ciceron, je suis du jugement commun que, hors la science, il n’y avait pas beacoup d’excellence en son äme: il etait bon citoyen, d’une nature debonnaire, comme sont volontiere les hommes greis et gausseurs, tel gu’il etait; mais de molesse et de vanite ambi-tieuse, il en avait, sans mentir, beaucoup» (Essais, 11, 10).
[15]
Lact. Inst, div., VI, 18.
[16]
Lact. Inst, div., III, 25.
[17]
August. Confessiones, III, 4.
[18]
Petrarca. Op. cit., p. 98.
[19]
Пер. Ф. Ф. Зелинского (Зелинский 1922, вып. 1, с. 37).
[20]
Tusc., V, 2, 5.
[21]
Cicero ар. Lact. Inst, theol., III, 14.
[22]
Lact. Inst, theol., III, 14.
[23]
Cic., De orat., III, 21, 79—80, пер. Ф. A. Петровского (см.: Цицерон 1972, с. 220—221).
[24]
Именно снят, хотя известен и поставлен; именно таково соотношение между двумя посланиями Петрарки к Цицерону.
[25]
Об этом автору приходилось говорить в статье «Древнегреческая поэтика и мировая литература» (см. наст, изд., с. 146—157).
[26]
Ср. наши замечания по этому поводу: Аверинцев 1979, с. 41—-81, особенно с. 62—65.
[27]
«Риторика» Аристотеля начинается с фактического приравнивания риторики тому, что Аристотель называет диалектикой (Rhet. I, 1, 1354а). О риторических занятиях неоплатоников см.: Kustas 1973, р. 6-12, 19-26, 86—95, 174—179 а. о.
[28]
Plut. Pericl., 2, I, p. 153a.
[29]
Luc. Somnium, 8, 11.
[30]
Petrarca. Op. cit., p. 112.
[31]
Важен не только и не столько тот случайный факт, что книга Витрувия оказалась в исключительном положении единственного дошедшего от античности и освященного авторитетом античности пособия по архитектуре. Такая роль принадлежала ей уже во времена так называемого каролингского Возрождения, когда ее прилежно изучали; но только благодаря Ренессансу книга Витрувия для барокко и классицизма перешла от статуса практического пособия к статусу некоего культурного символа, духовной ценности, значимость которой не ограничена профессиональными рамками.
[32]
Ср. Аверинцев 1973, с. 167 и прим. 33 на с. 255.
[33]
Hist. Nat., XXXV, 36, 1.
[34]
Hist. Nat., XXXV, 36, 2.
[35]
Hist. Nat., XXXV, 36, 3.
[36]
Hist. Nat., XXXV, 36, 5.
[37]
Hist. Nat., XXXV, 36, 10.
[38]
Hist. Nat., XXXVI, 4, 4.
[39]
Vasari 1896, p. 489.
[40]
Ibid., p. 942.
[41]
Deorat., I, 10, 40.
[42]
Deorat., I, 23, 106.
[43]
De orat., Ill, 2, 6.
[44]
Inst, orat., II, 16, 17.
[45]
Inst, orat., IV, 1, 70.
[46]
Inst, orat., X, 1, 83.
[47]
De arte poetica, 400 etc.
[48]
Цицерон называет Платона «как бы неким богом философов» (Denat. deor. II, 12, 32); еще более яркий пример — поэтическое обожествление Эпикура у Лукреция.
[49]
Обычно divus, но также divinus princeps, например, в панегирике Назария Константину Великому, XXXV, 3. В самом центре мира поздней античности стоят фигуры мудреца и монарха, как образы соотносительные и как раз поэтому соперничающие; уже на пороге эпохи стоит многозначительный «агон» легендарной встречи Александра и Диогена.
[50]
Ср.: Burckhardt 1908, S. 180.
[51]
A. Politiani epigrammata Iatina, LXXXVI (Maruiio, Poiiziano, Sannazzaro 1976, p. 82).
[52]
Thiio 1878, p. 2.
[53]
Trist., IV, 10, 1.
[54]
«Leviorum artium Studium».
[55]
См.: Tatarkiewicz 1962.
[56]
Elegantiae Linguae Latlnae, praef.
[57]
Dolci 1557, p. 164.
[58]
Vasari. Op. cit., p. 343.
[59]
Florida, 9, 32 Oudenorp.
[60]
Dionis or. XII.
[61]
Enneades, V, 8, 40.
[62]
Orator, 2, 8.
[63]
Dionis or, XII, 70—71.
[64]
Ср. Брагинская 1981, с. 224—289; Она же 1976, с. 146—149. De orat., I, 166—203.
[65]
Florida, 20.
[66]
Пер. Б. JI. Пастернака.
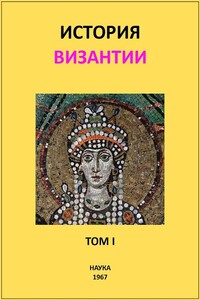
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
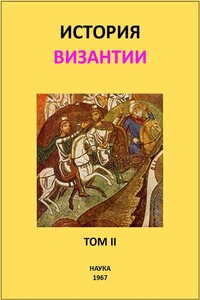
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Геопанорама русской культуры» задумана как продолжение вышедшего год назад сборника «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» (М.: Языки славянской культуры, 2003), на этот раз со смещением интереса в сторону изучения русского провинциального пространства, также рассматриваемого sub specie реалий и sub specie семиотики. Составителей и авторов предлагаемого сборника – лингвистов и литературоведов, фольклористов и культурологов – объединяет филологический (в широком смысле) подход, при котором главным объектом исследования становятся тексты – тексты, в которых описывается образ и выражается история, культура и мифология места, в данном случае – той или иной земли – «провинции».

Книга посвящена актуальной проблеме изучения национально-культурных особенностей коммуникативного поведения представителей английской и русской лингво-культур.В ней предпринимается попытка систематизировать и объяснить данные особенности через тип культуры, социально-культурные отношения и ценности, особенности национального мировидения и категорию вежливости, которая рассматривается как важнейший регулятор коммуникативного поведения, предопредопределяющий национальный стиль коммуникации.Обсуждаются проблемы влияния культуры и социокультурных отношений на сознание, ценностную систему и поведение.

Тематику работ, составляющих пособие, можно определить, во-первых, как «рассуждение о методе» в науках о культуре: о понимании как процессе перевода с языка одной культуры на язык другой; об исследовании ключевых слов; о герменевтическом самоосмыслении науки и, вовторых, как историю мировой культуры: изучение явлений духовной действительности в их временной конкретности и, одновременно, в самом широком контексте; анализ того, как прошлое культуры про¬глядывает в ее настоящем, а настоящее уже содержится в прошлом.

Существует достаточно важная группа принципов исследования научного знания, которая может быть получена простым развитием соображений, касающихся вообще места сознательного опыта в системе природы, описываемой в нем же самом физически (то есть не в терминах сознания, `субъекта`). Вытекающие отсюда жизнеподобные черты познавательных формаций, ограничения положения наблюдателя в его отношении к миру знания и т. д. порождают законный вопрос об особом пространстве и времени знания как естественноисторического объекта.