Репин - [43]
«Страх, как хочется работать, и не могу до сих пор. Теперь дело за тем, чтобы завесить чем-нибудь окно Atelier. 5 метров в квадрате, — уж очень велико»>[199].
Париж Репину вначале не понравился. Он так страстно и так давно стремился сюда, что, пережив неожиданное разочарование, он в первую минуту растерялся. Ему не нравились ни жизнь, ни люди, ни искусство, которого он сразу и не разобрал хорошенько, как позднее в этом сам признавался.
Крамской, дороживший письмами Репина, упрекнул его в слишком долгом молчании, высказав опасение, как бы не заглохла вся их переписка. Репин, действительно, больше месяца не писал ему. В ответ Репин посылает ему длинное письмо, ярко отражающее его переживания и настроения в течение первых недель его пребывания в Париже.
«Стоит только отложить письмо на неделю, чтобы оно пролежало более месяца. Впечатления первые, свежие, завалялись в душе, истерлись; письмо выйдет уже сухое, головное — чувствую все это, да уж делать нечего — читайте, если не жаль времени. Вы напрасно боитесь прекращения переписки; с моей стороны его не будет, ибо я очень дорожу теперь не только Вашими, но вообще всеми письмами из России; я рад бы был получать каждый день по письму, а то ведь совсем заглохнешь, отстанешь от своих; французов же не догнать нам, да и гнаться-то не следует: искалечимся только, сломаем ноги, расшибем головы без всякой пользы впрочем, и тут польза будет, отрицательная (для потомков). Да, много они сделали, и хорошего и дурного, тут уж климат такой, что заставляет делать, делать и делать; думать некогда; выбирать лучшее мудрено, работать для искусства — надобно долго учиться (бездельничать, по мнению французов), да и не оценит никто, бездарностью прозовут. Нет, им дело подавай сейчас же: талант, эссенцию, выдержку, зародыш; остальное докончат воображением. Да, у них нет лежачего капитала, все — в оборот, всякая копейка ребром. Они не хныкали в „кладбищенстве“, как мы, например, способны хныкать 200 лет кряду; у них мысль с быстротой электричества вырождается в действие. Давно уже течет этот громадный поток жизни и увлекает и до сих пор еще, всю Европу. Но у меня явилось желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование — от нее не много останется, т. е. очень много, но все это дешевое, молодое, недоношенное, какие-то намеки, которые никто не поймет. Не будет тут божественного гения Греции, который и до сих пор высоко подымает нас, если мы подольше остановимся перед ним. Не будет прекрасного гения Италии, развертывающего так красиво, так широко-широко человеческую жизнь (Веронез, Тициан), представляющего ее в таких обворожительных красках и таких увлекающих образах. Ничего равносильного пока еще нет здесь, да вряд ли будет что-нибудь подобное в этом омуте жизни, бьющей на эффект, на момент».
«Страшное, но очень верное у меня было первое впечатление от Парижа. Я испугался при виде всего этого. Бедные они, подумалось мне: должно быть, каждый экспонент сидит без куска хлеба, в нетопленной комнате, его выгоняют из мастерской, и вот он с лихорадочной дрожью берет холстик и, доведенный до неестественного экстаза голодом и прочими невзгодами, он чертит что-то неопределенное, бросает самые эффектные тона какой-то грязи, у него и красок нет; он разрезает старые, завалявшиеся тюбики, выколупывает мастихином, и так как материал этот повинуется только мастихину, то он и изобретает тут же новый очень удобный инструмент. Да, что так, — хорошо, еще, еще, и картинка готова, автор заметил, что он уже было начал ее портить; вовремя остановился. Несет ее в магазин. У меня сердце болело, если, проходя на другой день, я видел опять его картину. Боже мой, она еще не куплена! Что же теперь с автором?!!»
«И, право, соображая теперь холодно, вижу, что я угадал. Кто побогаче, тот кончает (Мейссонье, Бонна). Жутко делается в таком городе. Является желание удрать поскорее, но совестно удрать из Парижа на другой день. Сделаешься посмешищем в родной стране, которая очень не прочь похохотать после сытного обеда над ближним. (До обеда хнычут, на судьбу жалуются)»>[200].
Крамской тотчас же откликнулся на это письмо.
«Итак, Вы в Париже. Вот оно что! На другой день уж и бежать оттуда, это хотя Вам и свойственно, пожалуй, но все-таки как будто хвачено через край. Ведь там что-нибудь да есть же, что увлекает за собой всю Европу, как Вы говорите, и говорите совершенно справедливо, т. е. пока справедливо. Но в то же время мне очень понравилось Ваше желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование. Это так хорошо, метко и, главное, нужно даже это сделать, что я готов следовать за вами. Только вот что: так ли это все будет сказано о Франции в истории — другой вопрос. Одно несомненно: громадный поток жизни в Париже не все уносит и не всех, по крайней мере являются желающие сопротивляться; число таковых ежедневно увеличивается. Это очень важно помнить. Все, что вы говорите о первых впечатлениях Ваших в Париже, точь-в-точь совпадает с моими личными впечатлениями, но полагаю, что, кроме голода, который в Париже не подлежит сомнению, есть еще другой фактор — это национальный темперамент. Французу подавай успех, во что бы то ни стало и чем бы он ни был оплачен»
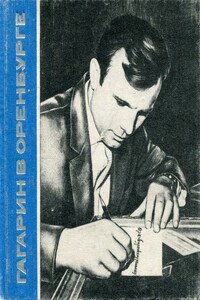
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
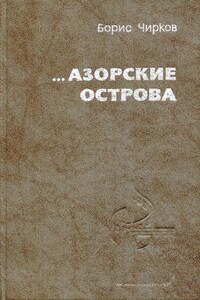
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
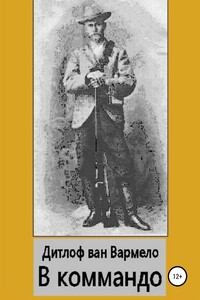
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.