Репин - [14]
Подводя в заключение итоги всего исследования, Чернышевский пишет, что «задачею автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения, будто бы истинно прекрасное, которое принимается существенным содержанием произведений искусства, не существует в объективной действительности и осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть — жизнь»>[74].
Какая разница по сравнению с тем, что еще так недавно писалось об искусстве известными тогда в литературе критиками Булгариным, Сенковским, Кукольником. Но уже Белинский требовал от художественного произведения правды, однако, теперь вопрос ставится решительнее: что выше — правда жизни или правда искусства? Для Чернышевского он безоговорочно решается в пользу жизни. «Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии; образы фантазии — только бледная и часто неудачная переделка действительности… Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова… искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни». Конечно, воспроизведение жизни есть главная задача искусства, но… «часто имеют они [произведения искусства] и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни»>[75].
Вот где уже почти формулирована мысль о проповеди в искусстве, вот почему формула «искусство для искусства», неприемлемая уже в 1841 г. для Белинского, становится прямо ненавистной к концу 50-х годов.
Само собой разумеется, что весь этот ход мыслей не возник в русском культурном обществе самостоятельно, вне зависимости от общего движения идей и настроений в тогдашней Европе. Прудон, известный мелкобуржуазный революционер, которого очень резко критиковал К. Маркс, уже задолго до того сформулировал те же мысли об искусстве, которые все чаще стали появляться на страницах петербургских журналов, повторяя некоторые недостатки, свойственные общим взглядам Прудона. Первым последователем Прудона, отважившимся применить его теоретические построения в своем собственном искусстве, был Густав Курбэ. Он был прав, когда с гордостью заявил в своей знаменитой речи на Художественном конгрессе в Антверпене в 1861 г., что он «первый поднял в Европе знамя реализма, на что не дерзал до него ни один художник».
«Прежнее искусство, — говорил Курбэ, — классическое и романтическое, было только искусством для искусства. Нынче — приходится рассуждать даже в искусстве. Основа реализма — это отрицание идеальности. Разум должен во всем задавать тон человеку. Отрицая идеальность и все с нею связанное, я прихожу к освобождению индивидуума». Задача нынешнего художника «…передавать нравы, идеи, облик нашей эпохи, как каждый отдельный художник и чувствует и понимает, быть не только живописцем, но и человеком; одним словом, создавать на светискусство живое. Художник не имеет ни права, ни возможности представлять такие столетия, которых он не видал сам и не изучал с натуры. Единственно возможная история — это современная художнику история. Ставя на сцену наш характер, наши нравы и наши дела, художник избежал бы… ничтожной теории „искусства для искусства“… он уберег бы себя от того фанатизма традиции, который осуждает его на вечное повторение все только старых идей и старых форм, заставляя забывать свою собственную личность»>[76].
Через 20 лет идеи Курбэ стали претворяться в жизни и творчестве русских художников. В своей статье «По поводу выставки в Академии художеств 1861 г.» Стасов говорит: «Прошло время старинных академистов Александровской эпохи, прошло и брюлловское мелодраматическое время; наше искусство наконец принялось за свои сюжеты, за свое содержание, за свои задачи. Как, скажут с удивлением иные, неужто до сих пор наше искусство никогда не бралось за русские сюжеты и задачи? Конечно, бралось, отвечаю я, да бралось оно каким-то странным манером: были у нас и Рогнеды и Владимиры, и разные российские битвы и бабочники и сваячники; и Минины, и осады Пскова, и даже девушки в сарафанах, ставящие свечки перед образом в русской церкви, — было все это и многое другое еще, да только навряд ли тут было много в самом деле русского. Глядя на эти картины, статуи и барельефы, мудрено было догадаться, без подписей и ярлыков, что это писали Русские и в России. Точь-в-точь какой-нибудь иностранец творил все это, наперед наведавшись только слегка, для приличия, о тех или других подробностях, заглянув мимоходом и в русское село, и в русский город. Не чуялось тут ничего русского в самом деле: это был маскарад, затеянный из снисхождения, продолжаемый по заказу или моде и потом без всякого труда и сожаления покинутый. Русские сюжеты бывали приятным и забавным развлечением для прежних наших художников: побаловавши с ними, они натурально спешили поскорее возвратиться к настоящим своим темам из римской мифологии, итальянских поэм и французских трагедий или романов или, еще вернее, к темам, откуда и из чего бы то ни было, только чужим, не своим… Не знаю, кто сделал чудо, совершающееся теперь с нашим искусством, литература ли, сама устремившаяся на новые пути и подвинувшая в общем движении все общество, в том числе и художников, или дух времени, везде переменившийся у нас, как в остальной Европе. Так или иначе, только перемена очень чувствительна; в ней нельзя сомневаться, ею теперь повеяло сильно, и вот отчего выставка начала вдруг получать во всем другой смысл для всех, чем прежде»

Книга повествует о «мастерах пушечного дела», которые вместе с прославленным конструктором В. Г. Грабиным сломали вековые устои артиллерийского производства и в сложнейших условиях Великой Отечественной войны наладили массовый выпуск первоклассных полевых, танковых и противотанковых орудий. Автор летописи более 45 лет работал и дружил с генералом В. Г. Грабиным, был свидетелем его творческих поисков, участвовал в создании оружия Победы на оборонных заводах города Горького и в Центральном артиллерийском КБ подмосковного Калининграда (ныне город Королев). Книга рассчитана на массового читателя. Издательство «Патриот», а также дети и внуки автора книги А. П. Худякова выражают глубокую признательность за активное участие и финансовую помощь в издании книги главе города Королева А. Ф. Морозенко, городскому комитету по культуре, генеральному директору ОАО «Газком» Н. Н. Севастьянову, президенту фонда социальной защиты «Королевские ветераны» А. В. Богданову и генеральному директору ГНПЦ «Звезда-Стрела» С. П. Яковлеву. © А. П. Худяков, 1999 © А. А. Митрофанов (переплет), 1999 © Издательство Патриот, 1999.
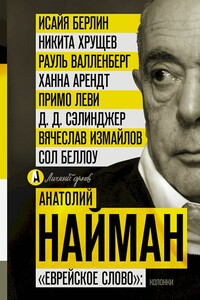
Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.
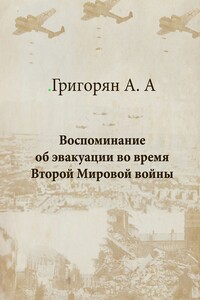
В период войны в создавшихся условиях всеобщей разрухи шла каждодневная борьба хрупких женщин за жизнь детей — будущего страны. В книге приведены воспоминания матери трех малолетних детей, сумевшей вывести их из подверженного бомбардировкам города Фролово в тыл и через многие трудности довести до послевоенного благополучного времени. Пусть рассказ об этих подлинных событиях будет своего рода данью памяти об аналогичном неимоверно тяжком труде множества безвестных матерей.
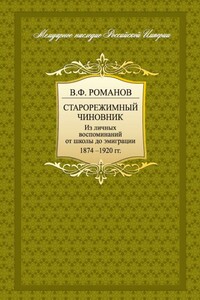
Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.