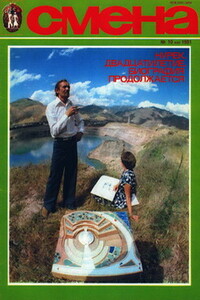Рембрандт - [5]
Рембрандт смеется:
– Приятно таскать мешки. От них хребет крепчает. Он словно бы дубовым делается.
– Тебе учиться надо.
– Успею и поучиться.
Тогда отец, смеясь, подымает мешок и кричит:
– Подставляй спину!
Рембрандт наклоняется. Мешок прижимает его чуть ли не до земли. Мука попадает в ноздри. Мальчик чихает что есть мочи.
– Тащи!
И Рембрандт тащит. Это очень полезная работа. От нее сила прибывает. А сила очень нужна. Она всегда пригодится. Даже ученому.
Потом он направляется в зернохранилище. Братья гребут зерно деревянными лопатами. Сыплют в мешки. Один из мешков припасен для спины Рембрандта.
– Поше-ел!
И Рембрандт идет. Прямиком к жерновам.
Однажды хозяйка говорит мужу:
– Ты ничего не замечаешь?
– А что я должен заметить?
– Рембрандт рисует.
– Что он рисует?
– Все, что на глаза попадается. Стол, стулья, меня, Лисбет, мешки, кувшин. Окно. Все заносит в тетрадь.
– Покажи мне.
Хозяйка достает из-под подушки тетрадь с листами японской бумаги. Мельник листает эдак немножко небрежно. В самом деле – стулья, столы, люди, кошка, лошадка!
Отец усмехается:
– Детская шалость.
Мать говорит:
– Однако недурно.
– Чепуха! Ученому ни к чему все это. Ему латынь нужна.
– И я так полагаю.
Он говорит:
– Пройдет это. Пусть пока царапает карандашом. Но ведь тетрадь-то дорогая. Откуда она?
– Чей-то подарок.
Отец бросает рисунки на кровать, Небрежно. А мать прячет их снова под подушку.
– Он – что? Скрывает?
– Нет, – говорит мать. – Но и не очень показывает. Вроде бы стесняется.
– Ладно, образумится. Многие шалят в детстве и юношестве. А потом жизнь прижмет. Мигом верную дорогу укажет. Скажи ему, твоему сыну: латынь важней!
Если присмотреться да вдуматься получше – мельницы в Лейдене очень смешные. Чего это они машут крыльями, как живые? Машут и день и ночь. Все они одна за другой уходят, веселые, неутомимые. Уходят туда, к дюнам, в сторону моря.
Он садится и рисует их.
А за спиною – братья.
– Послушай, – говорит Адриан, – на что ты время транжиришь?
Геррит подшучивает:
– Он хочет потягаться с мастером Сваненбюргом.
Адриан треплет брата за волосы.
Рембрандт огрызается:
– Отстаньте!
– Отстанем, если и нас нарисуешь.
Они усаживаются на камень.
– Рисуй!
Рембрандт, не говоря ни слова, переворачивает лист и что-то набрасывает – быстро, быстро.
Адриану надоело сидеть. Вразвалку шагает к брату. И вдруг – удивленно:
– Смотри-ка, Геррит!
И передает ему тетрадь. Геррит молчит, а потом произносит всего одну фразу:
– Надо показать ото мастеру Сваненбюргу.
– Нет! – говорит Рембрандт, отнимая тетрадь.
Старший, Геррит, говорит спокойно:
– Ладно, рисуй себе.
И братья удаляются. Рембрандт провожает их взглядом. И вскоре сам идет следом за ними. На мельницу.
– Подставляй спину!
Рембрандт послушно наклоняется. А тетрадь – под мышкой,
– Мы ее не тронем, – подшучивает Адриан.
Рембрандт молчит. Шея у него багровеет – то ли от напряжения, то ли от злости.
– Клади, – говорит он мрачно.
Мешок ложится ему на спину. Но он не трогается.
– Так и будешь стоять?
– Да.
– Не двинешься с места?
– Нет!
Братья смеются. Любопытно, надолго ли хватит упрямства у этого Рембрандта? Воистину ослиного упрямства…
«Займи место твое…»
Так вот, что же было потом? «Потом» – это значит после мельницы, после солода, после ветров и материнской ласки…
Темень обостряет память. Вот глаза не видят, в них темным-темно, а перед тобой все прошлое – как живое, словно только-только увиденное. Все, все, все: дома, крылатые мельницы, дюны, смелые ополченцы, готовые в любой час к бою, и мешки с хлебом, и пиво в погребах. Даже людские голоса в ушах. Совсем, совсем живые звуки…
На дворе хлещет дождь. Ветер северный, пронизывающий до костей. Горит камин. Вся семья в сборе. Отец кутается в теплый халат. На голове – шерстяная шапочка. Мать в чепце. На груди – крест-накрест широкая шаль. Только Лисбет налегке. Ей даже жарко.
Отец говорит:
– Надо Рембрандту доучиться. Латинская школа еще не все. В Лейдене есть и университет. Рембрандт, отложи книгу в сторону да послушай нас.
– Это не книга, – мрачно поясняет Рембрандт.
– Не книга? А что же?
– Это Библия.
– Разве Библия не книга?
– Нет. Священное писание.
Хармен Герритс разводит руками.
– Вы слышите? – удивляется он. – Нет, вы слышите? Он уже настолько учен, что книгу уже не называет книгой.
Старший брат Геррит Харменс берет сторону Рембрандта. Он говорит:
– Верно, это Библия.
– А что же Библия? Разве не книга?
– Разумеется, книга, – вмешивается мать.
– Нет, это Библия, – настаивает Рембрандт.
– И ты не хочешь послушать нас?
– Я слушаю.
– Сначала отложи ее. Дело тебя касается. Так вот, надо подумать об университете. Мы с твоими братьями будем молоть солод, а ты учись.
– Я не боюсь мешков с солодом.
– Это известно, Рембрандт. Нами уже решено: ты пойдешь в университет. Надо, чтобы кто-нибудь из ван Рейнов стал ученым. Это наше желание. Слышишь?
– Да, слышу.
Адриан замечает:
– Наш парень не очень-то благодарный. Мы даем слово исправно работать, чтобы только он учился. А где же благодарность?
– Неправда! – заступается мать. – Рембрандт всем отплатит добром. Дайте только срок.
– Это правда? – Отец строго глядит на Рембрандта.
– Правда, – чеканит Рембрандт.

Настоящий сборник рассказов абхазских писателей третий по счету. Первый вышел в 1950 году, второй — в 1962 году. Каждый из них по-своему отражает определенный этап развития жанра абхазского рассказа со дня его зарождения до наших дней. Однако в отличие от предыдущих сборников, в новом сборнике мы попытались представить достижения национальной новеллистики, придать ему характер антологии. При отборе рассказов для нашего сборника мы прежде всего руководствовались их значением в истории развития абхазской художественной литературы вообще и жанра малой прозы в частности.
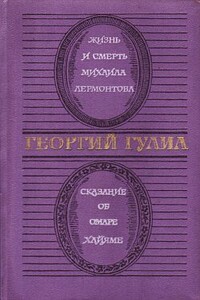
«… Омара Хайяма нельзя отдавать прошлому. Это развивающаяся субстанция, ибо поэзия Хайяма – плоть от плоти народа. Куда бы вы ни пришли, в какой бы уголок Ирана ни приехали, на вас смотрит умный иронический взгляд Омара Хайяма. И вы непременно услышите его слова: «Ты жив – так радуйся, Хайям!»Да, Омар Хайям жив и поныне. Он будет жить вечно, вековечно. Рядом со всем живым. Со всем, что движется вперед. …».

«… Ахаун сказал:– Но прежде я хотел бы, чтобы вы послушали одного чудака…– Чудака? – спросил зверолов.– Чудака…– Как это – чудака? – словно бы не расслышал лучший метатель камней.– Вот так – чудак! – Вождь племени чуть не продырявил себе указательным пальцем висок, чтобы показать, какой же это непроходимый чудак.– Где же он? – сказал следопыт, шмыгая носом, точно чудак должен был пахнуть как-то особенно.– Он ждет на лужайке. Перед моим домом.Охотник на барсов вышел из пещеры, чтобы привести этого чудака.Ахаун сказал:– Вы сейчас услышите нечто, но вы не смейтесь.

«… И здесь увидели глаза землепашца то, что увидели: в просторной усыпальнице стоял ковчег. Весь он был желтый, потому что был выкован из золота. Занимал ковчег почти все помещение в высоту, и в длину, и в ширину. И был Тхутинахт вдвое ниже ковчега.Певеро зашел с правой стороны и толкнул ногою золотую дверь. И Тхутинахт упал на камни, потрясенный величием Вечного Покоя. И он запричитал:– О бог наш Осирис! О владыка владык, покоривший мир!И не скоро осмелился землепашец поднять глаза на золотые саркофаги, безжалостно вывороченные ломом Певеро.Мумия великого божества валялась на полу, и золотой урей украшал ее лоб.

«… – Почтенный старец, мы слушали тебя и поняли тебя, как могли. Мы хотим предложить тебе три вопроса.– Говори же, – сказал апостол, которому, не страшны были никакие подвохи, ибо бог благоволил к нему.– Вот первый, – сказал Сум. – Верно ли, что твой господин по имени Иисус Христос, сын человеческий, и верно ли, что он властвует над человеком в этом мире и в мире потустороннем?Апостол воскликнул, и голос его был как гром:– Истинно! Мы рабы его здесь и рабы его там, в царстве мертвых, ибо он господин всему – живому и мертвому!Абасги поняли старца.– Ответствуй, – продолжал Сум, – верно ли, что твой господин рожден от женщины?– Истинно так! – предвкушая близкую победу, сказал святой апостол.Сум сказал:– Скажи нам, почтенный старец, как согласуется учение твоего господина с учениями мудрых эллинов по имени Платон и по имени Аристотель? …».
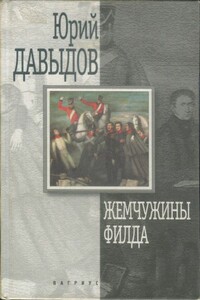
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
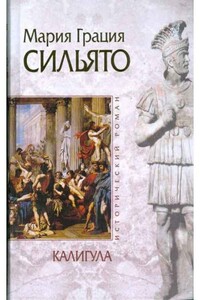
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
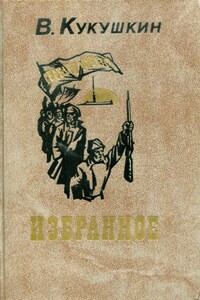
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
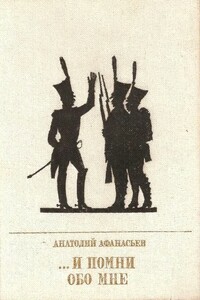
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.