Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи - [37]
Где чувство человека есть еще темный инстинкт, где его общее отношение к миру еще не созрело до полной ясности, там мир для него может быть лишь смутным единством, в котором нельзя определенно различить никакого многообразия, – однообразно спутанным хаосом, без разделения, порядка и закона, из которого, за исключением того, что непосредственно относится к существованию самого человека, все частное не может быть выделено иначе, как произвольным обособлением его в пространстве и времени. И здесь, разумеется, будет довольно безразлично, склоняется ли понятие, поскольку и здесь уже замечаются его следы, скорее в одну или в другую сторону. Представляется ли характер целого как слепая судьба, которая может быть обозначена лишь магическими действиями, или как существо, которое хотя и должно быть живым, но не имеет определенных качеств, – как идол, фетиш, все равно, один или несколько, ибо они могут ведь различаться лишь произвольно установленными границами своей области, – этому вы, наверно, не придадите никакого существенного значения; напротив, вы признаете, что то и другое есть одинаково несовершенное благочестие, – но вместе с тем, что то и другое все же есть благочестие. Прогрессируя далее, чувство становится сознательнее, и яснее выделяется многообразие и определенность отношений; но вместе с тем в миросознании человека выступает определенное множество разнородных элементов и сил, неустанный и вечный спор которых обусловливает его проявления. Соответственно этому изменяется тогда и результат рассмотрения чувства, противоположные формы понятия более отчетливо разделяются, слепая судьба превращается в высшую необходимость, в которой недостижимо и непостижимо для нас покоится основа и связь вещей. Точно так же возвышается и понятие личного Бога, одновременно разделяясь и умножаясь; ведь поскольку эти силы и элементы порознь мыслятся одушевленными, возникает бесконечное множество богов, различаемых по различным предметам их деятельности, как и по различным склонностям и характерам. Вы должны признать, что это выражает уже более сильную и прекрасную жизнь вселенной в чувстве, чем прежнее состояние, – и прекраснее всего там, где в чувстве теснее всего связаны приобретенное многообразие и изначально присущее высшее единство, и где также – как это вы встречаете у справедливо почитаемых вами эллинов – обе формы соединены в рефлексии, причем одна, выражающая единство, развивается более в мышлении, другая же, отражающая многообразие, развивается более в искусстве. Но даже когда такой гармонии и нет, вы все же признаете, что тот, кто возвысился до этой ступени, имеет более совершенную религию, чем тот, кто остался на предыдущей. Следовательно, тот, кто на высшей ступени преклоняется перед вечной и недостижимой необходимостью и вкладывает представление о высшем существе скорее в нее, чем в отдельных богов, также совершеннее грубого почитателя фетиша? Но подымемся еще выше, туда, где все борющиеся начала снова объединяются, где бытие выражается как целостность, как единство во множестве, как система и впервые заслуживает свое имя; и кто так воспринимает его как всеединое и таким образом полнее всего противостоит целому и снова соединяется с ним в чувстве, – разве тот не достиг большего в своей религии, как бы последняя ни отражалась в понятии, чем всякий иной, стоящий на более низком уровне? Итак, всюду, а следовательно и здесь, ценность человеческой религии определяется тем, как человек сознает Божество в чувстве, а не тем, как он всегда несовершенно отображает религию в понятии, о котором мы здесь говорим. И если, как это часто случается, стоящий на этой ступени, но отвергающий понятие личного Бога, обычно называется пантеистом или получает обозначение в связи с именем Спинозы, – то я не хочу спорить о правомерности этого, а отмечу лишь, что такой отказ мыслить Бога в личной форме ничего не говорит против присутствия Божества в его чувстве; напротив, это может корениться лишь в смиренном ощущении ограниченности личного бытия вообще и, в частности, связанного с личностью сознания. Но тогда несомненно, что такой человек может стоять столь же высоко над почитателем двенадцати великих богов, сколь высоко религиозный человек на этой ступени, обозначение которой вы с таким же правом можете связать с именем Лукреция, стоит над идолопоклонником. Но в том и состоит давнее недоразумение, в том и обнаруживается явный признак невоспитанности, что люди более всего отвергают тех, кто стоит на одной ступени с ними, но лишь на ином месте этой ступени. До какой из этих ступеней возвысился человек, это свидетельствует о его чутье к Божеству, это есть подлинное мерило его религиозности. Но какое из этих понятий он усвоит себе – поскольку он вообще для себя нуждается в понятии, – это зависит всецело от того, для каких целей ему нужно понятие и в какую сторону преимущественно тяготеет его воображение – в сторону ли бытия и природы, или в сторону сознания и мышления. Вы, я надеюсь, не признаете кощунством и не усмотрите противоречия в утверждении, что склонность к этому понятию личного Бога или отрицание последнего и склонность к понятию безличной всемогущей силы зависит от направления фантазии; вы поймете, что под фантазией я разумею не что-либо подчиненное и смутное, а высшее и самое первичное в человеке, и что вне ее может быть лишь размышление о ней, которое, следовательно, также зависит от нее; вы знаете, что в этом смысле ваша фантазия, ваше свободное созидание мыслей есть то, в силу чего вы приходите к представлению мира, которое не может быть дано вам извне и вместе с тем не есть позднейший результат умозаключения; и в этом представлении вас тогда объемлет чувство всемогущей силы. Способ же, каким каждый переводит это чувство на язык мыслей, зависит от того, что один, сознавая свое бессилие, охотно отдается таинственной теме, другой же, чей взор преимущественно устремлен на определенность мысли, может мыслить и расширять себя лишь под единственной данной нам формой сознания и самосознания. Но боязнь темноты неопределенно мыслимого есть одно направление фантазии, и боязнь видимости противоречия, когда бесконечному мы приписываем формы конечного, есть другое ее направление; и разве одна и та же глубина религиозного чувства не может быть связана одинаково и с тем и с другим? И более подробное рассмотрение религии – которому, впрочем, здесь не место, так как мы говорим лишь о внутренней сущности религии, – показало бы, что оба рода представления совсем не так далеки друг от друга, как это кажется большинству; только в один из них не нужно вкладывать идею смерти, в отношении же другого нужно честно употребить все усилия, чтобы осмыслить в нем ограниченность. Это я считал необходимым сказать, чтобы вы поняли меня и мое отношение к обеим этим формам представления; и главным образом, чтобы вы и другие не впадали в самообман относительно нашей области и не думали, что все, кто не хотят примириться с идеей личного высшего существа, как она обыкновенно изображается, принадлежат к противникам религии. И я твердо убежден, что сказанное не сделает менее достоверным понятие личного Бога ни для кого, кто уже носит его в себе; а также, что никто не освободится от почти непреодолимой необходимости усваивать это понятие только потому, что будет знать, откуда проистекает для него эта необходимость. Вместе с тем истинно религиозные люди никогда не были ревностными энтузиастами или мечтателями в отношении этого понятия; и поскольку – как это часто случается – под атеизмом разумеют не что иное, как нерешительность и сомнения в отношении этого понятия, истинно благочестивые люди весьма спокойно смотрят на его соседство, и всегда есть нечто, что кажется им более нечестивым, – именно отсутствие у человека непосредственного сознания Божества через чувство. Только они всегда будут более всего колебаться поверить, что человек действительно совершенно лишен религии, а не обманывает себя в этом отношении; ведь такой человек должен был бы также совершенно не иметь чувства и всем своим существом быть погруженным в животную стихию; они полагают, что лишь тот, кто так низко пал, может совсем не воспринимать Бога в нас и в мире, божественной жизни и действенности, в силу которой все существует. Но кто, отвергая примеры многих и достойных людей, настаивает, что сущность благочестия состоит в исповедании, что Бог есть лично мыслящее и внемирно хотящее существо, тот, по-видимому, не обладает особенно широким кругозором в области благочестия, и ему остались чуждыми самые глубокомысленные слова ревностнейших защитников его собственной веры. Но слишком велико число тех, кто от своего Бога, мыслимого в этой форме, хотят того, что чуждо благочестия: а именно, Он должен извне обеспечивать им блаженство и манить их к нравственности. Они должны подумать, возможно ли это; ведь свободное существо не может хотеть иначе действовать на свободное существо, как лишь давая ему познать себя – все равно, через скорбь или через радость, ибо это определяется уже не свободой, а необходимостью. Точно так же Божество не может манить нас к нравственности; ибо всякая внешняя приманка, будь то надежда или какой бы то ни было страх, есть нечто чуждое, следуя чему в области нравственности, мы не свободны, т. е. безнравственны; высшее же Существо, особенно поскольку оно само мыслится свободным, не может хотеть сделать саму свободу несвободной и нравственность – безнравственной.

В новой книге автор Н. Мальцев, исследуя своими оригинальными духовно-логическими методами сотворение и эволюцию жизни и человека, приходит к выводу, что мировое зло является неизбежным и неустранимым спутником земного человечества и движущей силой исторического процесса. Кто стоит за этой разрушающей силой? Чего желают и к чему стремятся силы мирового зла? Автор убедительно доказывает, что мировое зло стремится произвести отбор и расчеловечить как можно больше людей, чтобы с их помощью разрушить старый мир, создав единую глобальную империю неограниченной свободы, ведущей к дегенерации и гибели всего человечества.

В атмосфере полемики Боб Блэк ощущает себя как рыба в воде. Его хлебом не корми, но подай на съедение очередного оппонента. Самые вроде бы обычные отзывы на книги или статьи оборачиваются многостраничными эссе, после которых от рецензируемых авторов не остаётся камня на камне. Блэк обожает публичную дискуссию, особенно на темы, в которых он дока. Перед вами один из таких примеров, где Боб Блэк, юрист-анархист, по полочкам разбирает проблему преступности в сегодняшнем и завтрашнем обществе.
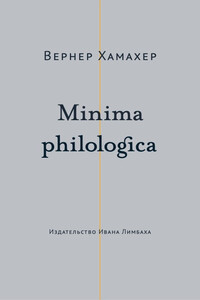
Вернер Хамахер (1948–2017) – один из известнейших философов и филологов Германии, основатель Института сравнительного литературоведения в Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне. Его часто относят к кругу таких мыслителей, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Вернер Хамахер – самый значимый постструктуралистский философ, когда-либо писавший по-немецки. Кроме того, он – формообразующий автор в американской и немецкой германистике и философии культуры; ему принадлежат широко известные и проницательные комментарии к текстам Вальтера Беньямина и влиятельные работы о Канте, Гегеле, Клейсте, Целане и других.

Что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью? И чем является человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила? Именно на эти вопросы новая книга Агамбена стремится дать ответ с помощью увлеченного перепрочтения того захватывающего и бездонного феномена, который представляет собой западное монашество от Пахомия до Святого Франциска. Хотя книга детально реконструирует жизнь монахов с ее навязчивым вниманием к отсчитыванию времени и к правилу, к аскетическим техникам и литургии, тезис Агамбена тем не менее состоит в том, что подлинная новизна монашества не в смешении жизни и нормы, но в открытии нового измерения, в котором, возможно, впервые «жизнь» как таковая утверждается в своей автономии, а притязание на «высочайшую бедность» и «пользование» бросает праву вызов, с каковым нашему времени еще придется встретиться лицом к лицу.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.
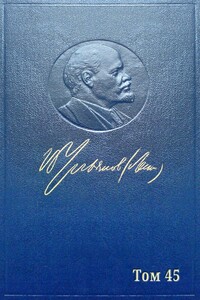
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.