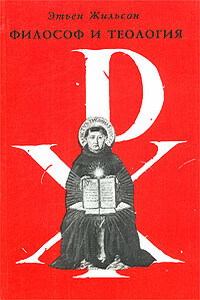Разум и откровение в средние века - [2]
Такая абсолютная убежденность в самодостаточности Христианского Откровения всегда находила решительных сторонников. Мы обнаруживаем такую позицию представленной во все наиболее значительные периоды истории Христианской мысли. Приверженцев такого взгляда можно обнаружить всегда и везде, но такой взгляд находит свое активное словесное выражение в основном тогда, когда философия начинает угрожать вторжением в область Откровения. Еще во втором веке, когда гностицизм стал реальной угрозой, Тертуллиан нашел убедительные формулировки, чтобы высказать то, что он считал непримиримым антагонизмом между Христианством и философией. Седьмая глава его трактата «О предписаниях против еретиков» представляет собой не что иное, как яростные нападки на то, что сам Бог назвал «юродством» («глупостью») философии: «Ибо философия есть поспешный толкователь природы, промысла Божия и мудрости мира. Именно философией провоцируются ереси. Одно и то же все время обсуждается как еретиками, так и философами, и те, и другие прибегают к одним и тем же аргументам. Откуда берется зло? Почему злу позволено существовать? Каково происхождение человека? Каким образом он приходит в этот мир? Обсуждается и вопрос, незадолго до того предложенный Валентием: откуда приходит Бог? Сам же он отвечает так: из enthymesis (размышления) и ectroma (откровения). Несчастен Аристотель, который изобрел диалектику для этих людей, искусство возводить и разрушать, искусство, так далеко заходящее в своих предположениях, такое резкое в своих аргументах, толкающее к раздорам, обременительное само для себя, отрекающееся от всего и занимающееся ничем! Разве уже Апостол Павел не предупреждал об опасности таких досужих размышлений, когда он писал Колоссянам: «Смотрите, чтобы кто не увлек Вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому..., а не по Христу» (Кол., 2,8)». А затем, уже не сдерживая своего красноречивого возмущения, Тертуллиан восклицает: «Какое отношение имеют Афины к Иерусалиму? Какое согласие может быть между Академией и Церковью? Между еретиками и Христианами? Наше научение идет от дверей Соломона (Деяния 3,5), который сам себя научил тому, что Бога следует искать в простоте сердца (Прем., 1, 1). Долой все попытки создать смешанное Христианство, которое будет смесью Стоических, Платонических и диалектических идей. Мы не хотим никаких затейливых диспутов после того, как мы получили в обладание Христа Иисуса, никаких дальнейших изысканий после того, как мы усладились Евангелием! С нашей верой нам не нужно более никаких верований. Ибо обладание наиглавнейшей верой не оставляет ничего такого, во что еще мы должны верить».
Я привел достаточно обширные цитаты из Тертуллиана, так как он может служить прекрасным примером определенного типа отношения к разбираемой проблеме. У Тертуллиана представлены уже все наиболее важные черты такого типа, и я полагаю, что в приведенных цитатах мы не найдем ни одного предложения, которое не цитировалось бы по многу раз, начиная со второго века и до конца Средних Веков и даже позже. Давайте назовем мыслителей этого направления «группой Тертуллиана», и я уверен, что когда тот или иной ее представитель будет нам встречаться, мы не ошибемся в его принадлежности именно к этой группе. Несмотря на индивидуальные различия, этот тип мыслителей так легко узнаваем! Они уделяют главное внимание трем или четырем текстам Апостола Павла, всегда одним и тем же, исключают все его другие заявления о нашем естественном знании Бога и о существовании врожденного морального закона или об обязывающей силе этого закона; они безусловно осуждают греческую философию, как будто ни один из греческих философов никогда ничего верного не говорил о сущности Бога, человека и о нашей судьбе; они питают острую ненависть по отношению к Диалектике и подвергают ее злобным нападкам, забывая о том, что невозможно осуждать Диалектику и при этом не использовать ее; они прослеживают ереси, направленные против религиозных догматов, и относят их ко вредному влиянию философских размышлений о теологическом знании; и наконец, они заявляют, уже не прибегая к тонкостям аргументации, об абсолютном противоречии между религиозной верой в слово Божье и использованием естественного разума по отношению к Откровению. Все эти черты, чья взаимосвязь совершенно очевидна, помогают определять членов группы Тертуллиана и увидеть то общее, что объединяет - пусть и не очень жестко - эту группу.
Чтобы ограничиться небольшим количеством типичных случаев, обратимся к греческому писателю Татиану, чье «Обращение к грекам» представляет собою не что иное, как резкий протест христианского варвара против того чувства гордости, которое греки испытывали по поводу своих так называемых цивилизованных социальных институтов. «Что благородного возникло из ваших занятий философией?» - вопрошает Татиан. И после длинной череды нападок на Платона и Аристотеля, Стоиков и Эпикурейцев мы обнаруживаем, что его выводы полностью согласуются с мыслями Тертуллиана, труды которого Татиан наверняка не читал: «Подчиняясь повелениям Бога и следуя закону Отца бессмертия, мы отбрасываем все, что зиждется на человеческом мнении». Если мы перенесемся из второго века в двенадцатый, т. е. в период, когда великолепное развитие Логики не могло не беспокоить представителей группы Тертуллиана, мы тут же обнаружим ряд интересных образчиков этого весьма агрессивного вида теологической мысли. Даже у самого великого - Св. Бернара находим некоторые из их черт. Возможно, он имел в виду Петра Абеляра, когда писал свою третью «Проповедь к празднику Сошествия Святого Духа». Так или иначе ясно, что Св. Бернар считал, что никакого нет проку от людей, которые «называют себя философами», в то время как, по его мнению, они «должны были бы называться рабами любопытства и спеси». Он хотел, чтобы его собратья принадлежали к школе того Высшего Учителя, которому посвящен праздник Сошествия Святого Духа, т. е. Святому Духу, а не к этой философской школе. Каждый из тех, кто посещал Его Божественную школу, мог бы сказать вместе с Псалмопевцем (Пс.,118, 99): «Я стал, разумнее всех учителей моих». И, захваченный своим собственным красноречием, Св. Бернар неожиданно восклицаете «Зачем, о брат мой, делаешь ты такое хвастливое заявление? Оттого ли, что... ты понял или пытался понять размышления Платона и тонкости Аристотеля? Упаси Бог! - отвечаешь ты. Это оттого, что я искал твои заветы, о Господи». Св. Петр Дамиани с его значительно более острыми нападками на Диалектику, Грамматику и, вообще говоря, на все, что хоть в малейшей степени полагается на силу естественного разума, мог бы служить еще более подходящим примером (хотя и значительно менее привлекательным) того же направления мысли. В XIII и XIV столетиях страстные и подчас излишне бурные споры, которые бушевали во Францисканском Ордене между сторонниками крайних взглядов - так называемыми «спиритуалами» («духовными») и сторонниками добросовестного изучения философии - происходили из-за радикального теологизма спиритуалов. Францисканский поэт Якопоне да Тодо был спиритуалом, и он выразил взгляды спиритуалов в одном из своих знаменитых стихотворений «Париж разрушил Ассизи»:

Предлагаемые четыре лекции затронут лишь один аспект высочайшей из всех метафизических проблем и рассмотрят его на основе весьма ограниченного числа исторических фактов, которые принимаются как нечто само собой разумеющееся, не требующее особого обоснования. Эта проблема есть метафизическая проблема Бога. Для обстоятельного исследования нами выбран особый аспект: связь между нашим понятием Бога и доказательством Его существования. Подход к этому философскому вопросу — тот же самый, о котором я уже говорил в «Единстве философского опыта» (The Unity of Philosophical Experience, Scribner, New York, 1937) и «Разуме и откровении в Средние века» (Reason and Revelation in the Middle Ages, Scribner, New York, 1938)
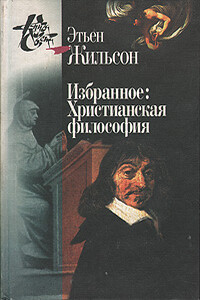
Этьен Жильсон (1884–1978) — один из виднейших религиозных философов современного Запада, ведущий представитель неотомизма. Среди обширного творческого наследия Жильсона существенное место занимают исследования по истории европейской философии, в которых скрупулезный анализ творчества мыслителей прошлого сочетается со служением томизму как величайшей философской доктрине христианства и с выяснением вклада св. Фомы в последующее движение европейской мысли. Интеллектуальную и духовную культуру «вечной философии» Жильсон стремится ввести в умственный обиход новейшего времени, демонстрируя ее при анализе животрепещущих вопросов современности.

Все неудачи метафизики происходят от того, что философы-метафизики подменяют бытие, как первое начало своей науки, одним из частных аспектов бытия, изучаемых различными науками о природе.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.