Разрушающий и созидающий миры - [15]
И вот, говорю, в Толстом после второго кризиса, как и после первого, в Толстом “Войны и мира”, как в Толстом “Исповеди” и “Крейцеровой сонаты”, наблюдается органическое соединение двух, по-видимому, совершенно несоединимых душ. С одной стороны, в нем живет пророк, готовый последовать примеру Авраама и даже Иезекииля, готовый сродниться с безумием, вызвать на смертный бой здравый смысл и пренебречь всеми радостями жизни. Таким он бывает в периоды своих кризисов, до той поры, пока здравый смысл не убедит его спуститься в низовья обыденности, твердого знания, правил и “счастья”. С другой стороны — он судорожно держится за разум и учит людей надеяться, что религия есть как раз то, что помогает нам устраивать свою жизнь. После “Исповеди”, после того, как он уверовал уже в Бога, муки сомнения и неверия далеко не покинули его. Я не говорю уже о “Смерти Ивана Ильича”. Может быть, в этом рассказе Толстой изображает то, что он испытал до своего второго обращения (но после первого, что тоже имеет для нас большое значение). Но “Крейцерова соната”? Даже для слепого ясно, что она порождена какими-то переживаниями, возникшими совершенно независимо от всех религиозных борений и исканий. Именно в то время, когда Толстой радостно отдавался своей высокой учительской миссии, — открывал людям Евангелие, — в его жизни произошло нечто неслыханно тяжелое, отвратительное и постыдное. Если бы Толстого в это время кто-нибудь ударил по щеке, он бы спокойно и легко, даже с радостью подставил бы другую. Но тут был, очевидно, такой удар (и, может быть, не от чужой, а своей собственной руки), такое ужасное осквернение души, на которое для Толстого, как для Позднышева, был возможен один ответ: кинжалом. Подчеркиваю, для Толстого, верующего в Евангелие и непротивление злу, не было другого выхода. Об этом говорит каждая строчка, каждое слово “Крейцеровой сонаты”: имеющий уши, да слышит. Но Толстой не убил, а смыл оскорбление, написавши новое гениальное произведение. Пусть специалисты в делах чести разрешают вопрос, можно и должно ли таким способом смывать оскорбления. Мне кажется, что если существует загробная жизнь, такой вопрос будет поставлен не только по поводу “Крейцеровой сонаты”, но также по поводу многих других гениальных произведений. Как он будет решен, сказать не берусь, и здесь мы его касаться не будем: в силу своей всеобъемлемости он может быть решен только на страшном суде, ибо в нашем эмпирическом мире мы не найдем достаточных данных для его освещения. Я хочу указать лишь на то, что Толстой знает, что такое жертва Авраама и каково заносить руку на то, что тебе дороже всего на свете. И когда он в своих сочинениях рассказывает нам о своих жертвах, мы уже не можем верить его уверениям, что так хорошо и так славно жить, и что Христос может научить еще лучше и еще приятнее жить. Мало можно назвать писателей, которые умели бы так подрывать веру в разум и возможность счастливого устроения на земле, как Толстой. Достигает он этого больше всего несоответствием даваемых им ответов с предлагаемыми им же самим вопросами. Недаром он два раза видел смерть, два раза разрушал и два раза созидал мир. Кто научился у Толстого спрашивать, кто воспринял, как Толстой, казнь преступника, смерть брата, пытку Ивана Ильича, обиду Позднышева, тот, может быть, будет протестантом или католиком, позитивистом или метафизиком, — но во всяком случае, каких бы верований или учений он ни держался, они даже и приблизительно не выразят его действительного отношения к миру, Богу и людям. Мне кажется, что, может быть, “учение” Толстого оттого так ясно, просто и неубедительно, что он бессознательно чувствует, что все равно не претворишь в слово всего того, что накопилось в душе за долгие 80 лет трудной, сложной и огромной жизни. Разуму такая задача не по силам: пусть берется за посильные задачи. Пусть обличает, проповедует, вырабатывает правила жизни, утешает и учит людей. Ничего, конечно, значительного из этого не выйдет, но та часть нашего существа, которая покоряется разуму, очень малого и требует.
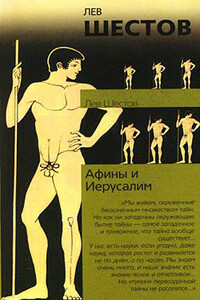
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
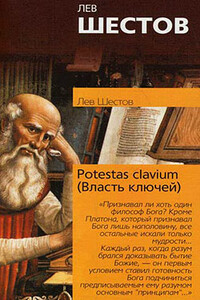
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
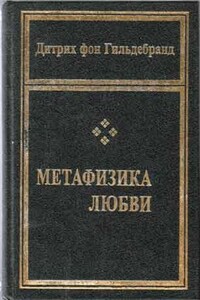
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
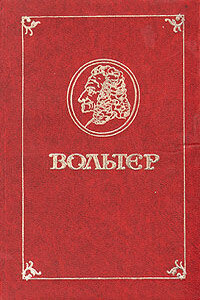
"Homelies, prononces a Londres en 1765, dans une assemblee privee". Эта работа, опубликованная в 1767 г., состоит из четырех частей ("проповедей"): об атеизме, о суеверии, о понимании Ветхого завета, о понимании Нового завета. Критика атеизма и обоснование деизма сочетаются у Вольтера с решительной критикой реально существовавших религий и церквей, в первую очередь иудаизма и христианства. В настоящем издании публикуются первые две части "Назидательных проповедей".

Монография представит авторское осмысление ряда параметров философской теологии как новой реальности в российском философском контексте. К ним относятся отличия светской рациональной теологии от традиционного церковного богословия, дифференциация различных типов дискурса в самой рациональной теологии, выявление интеркультурного измерения философской теологии, анализ современных классификаций обоснований существования Бога, теологический анализ новейшей атеистической аргументации и самого феномена атеизма, а также некоторые аспекты методологии библейской герменевтики.

Глобальный кризис вновь пробудил во всем мире интерес к «Капиталу» Маркса и марксизму. В этой связи, в книге известного философа, политолога и публициста Б. Ф. Славина рассматриваются наиболее дискуссионные и малоизученные вопросы марксизма, связанные с трактовкой Марксом его социального идеала, пониманием им мировой истории, роли в ней «русской общины», революции и рабочего движения. За свои идеи классики марксизма часто подвергались жесткой критике со стороны буржуазных идеологов, которые и сегодня противопоставляют не только взгляды молодого и зрелого Маркса, но и целые труды Маркса и Энгельса, Маркса и Ленина, прошлых и современных их последователей.

Многотомное издание «История марксизма» под ред. Э. Хобсбаума (Eric John Ernest Hobsbawm) вышло на нескольких европейских языках с конца 1970-х по конец 1980-х годов (Storia del Marxismo, História do Marxismo, The History of Marxism – присутствуют в сети). В 1981 – 1986 гг. в издательстве «Прогресс» вышел русский перевод с итальянского под общей редакцией и с предисловием Амбарцумова Е.А. Это издание имело гриф ДСП, в свободную продажу не поступало и рассылалось по специальному списку (тиражом не менее 500 экз.). Русский перевод вышел в 4-х томах из 10-ти книг (выпусков)

Сборник статей доктора философских наук, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных посвящен различным аспектам одной темы: взаимосвязанному движению искусства и философии от модерна к постмодерну.Издание адресуется как специалистам в области эстетики, философии и культурологи, так и широкому кругу читателей.