Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - [43]
На следующий день она корит себя за вырвавшиеся слова:
Вчера я, кажется, наговорила тебе много глупостей, прошу у тебя миллион раз прощения. Временами я теряю рассудок и правильное соображение и делаюсь такой глупой, что это переходит всякие границы (145).
В дальнейших записях идет постоянная борьба: желание соответствовать образу терпеливой, готовой к самопожертвованию матери и христианки (быть в границах рассудка) вытесняется отчаянным выкрикиванием подавленных, запрещенных желаний, после чего диаристка ощущает безмерную вину и стремится извиниться и оправдаться.
Часто я молчу целыми часами, и первое слово, которое я произношу, это «милый друг, милый друг», а потом — ведь ты знаешь, мысли идут быстрее, чем слова, — я думаю, о жестокий варвар, чудовище, приказавший мне остаться так далеко от него. Не в укор тебе будет сказано, я иногда думаю, что ты поступил крайне деспотично с твоей бедной подругой (146).
Мое состояние ужасно, я не знаю, смогу ли я еще долго выносить эту жестокую борьбу. Я не знаю никого более несчастного, чем я, ты и наши дети, особенно они, не знаю более несчастливой участи, чем та, которая их ожидает. Прости, мой дорогой друг, я сама не знаю, что говорю, — все, может быть, еще будет хорошо.<…> Прощай, мой друг, я тщетно пытаюсь казаться лучше, чем я есть. Больше не могу, пойду поплачу вволю (148).
Если бы ты видел меня эти три дня, то, конечно, и твое мраморное сердце с мят ил ось бы и твои уста дали бы разрешение следовать за тобой (149).
В одном из писем Анастасия рассказывает «анекдот» (то есть занимательную историю) об отце, который жестко контролировал дочерей при жизни (не давал им выйти замуж). После его смерти, когда одна дочь говорит о том, что «браки записаны на небесах», младшая сестра замечает: «Тем хуже, сестра, я боюсь, что отец наш разорвет эту запись». «Но я вижу, что я делаюсь писательницей, я ввожу в свое писание разные анекдоты» (149), — сразу же с самоиронией комментирует диаристка.
Все приведенные выше записи показывают, что Якушкина, стараясь соответствовать навязанной ей модели женственности, в то же время болезненно воспринимает необходимость постоянно «казаться лучше, чем я есть», тяжело переживает ситуацию абсолютного контроля над ее Я.
Она обвиняет мужа (или патриархатное Ты, власть) в деспотизме, ее извинения и оговорки «не в обиду», «не в укор тебе будет сказано» и т. п. — на самом деле как раз выражают ее обиду и укор.
Интересно, что, как и А. Керн (и как А. Оленина — см. ниже), Якушкина пытается «объективировать» свое состояние, «стать писательницей».
Рассказанный ею как будто не идущий к делу эпизод об отце, который из-за жадности мешал дочерям выйти замуж, можно рассматривать как попытку донести в деперсонифицированной, дистанцированной от ее личной ситуации форме идею абсолютной власти над женщинами, которые даже после смерти Отца не могут выйти из-под его вездесущего контроля.
Разорванность на два Я: образцовое, «правильное», выстроенное с оглядкой на авторитетные и одобренные модели женственности, и неправильное, болезненное, тоскующее, в письме, на кончике пера выражающее свое желание (это мое «перо» ведет себя неправильно, а не я), — буквально пронизывает письма Якушкиной.
К концу дневника протест становится все более прямым и активным:
Я тоскую, я хочу быть с тобой наперекор тебе и всему свету (150).
Если ты позволишь мне приехать без детей, дай мне знать. Я прошу об этом на коленях, как о самой великой милости, которую ты можешь мне даровать. Во имя неба, разреши! (151).
Мой милый друг, мое состояние ужасно, я не выдержу. Разреши мне приехать к тебе. Я не могу писать, мне так грустно. Прощай, жестокий, нелюбимый, слишком любимый друг. Больше не могу (151).
…разреши мне приехать к тебе! Ты этим сделал бы меня счастливой на всю жизнь. Заклинаю тебя нашими детьми. Разреши мне это сделать. Сейчас я кое-как занимаюсь ими, но в дальнейшем вряд ли буду это в состоянии делать, и это так угнетает. Нет, я не могу здесь остаться, все только отягощает мое несчастье. Не могу больше писать, слезы душат меня, прощай (151).
Из меня делают куклу, делают со мной все, что хотят, потому что у меня нет возможности жить так, как я бы хотела. Теперь только я узнала, как свет ужасен. Нет, я не могу тебе писать. Раз ты не хочешь позволить мне приехать к тебе, то я непременно поеду в Иркутск, и нет силы на земле, которая могла бы меня удержать. Прощай, Евгений меня не покидает и раздирает мне сердце. Вячеслав еще спит; прощай, моя печаль невыносима. Быть в разлуке с тобой это ужасно. Почему я не умерла при рождении — я была бы более счастлива. Не могу больше, прости, дорогой мой, но бывают минуты, когда я не знаю, что с собой поделать. Я так тебя люблю (152).
Таким образом, можно видеть, что и в эпистолярном дневнике А. Якушкиной, как и у А. Керн, текст существует в ситуации на грани публичности и приватности, смирения и бунта. На построение дневникового женского Я огромное влияние оказывает факт внутренней адресованности, те роли, которые создаются в дневнике для Ты-адресата, одновременно выполняющего функции идеального друга, alter ego, — и цензора, представителя подавляющей, авторитарно-патриархальной власти.

Период с 1890-х по 1930-е годы в России был временем коренных преобразований: от общественного и политического устройства до эстетических установок в искусстве. В том числе это коснулось как социального положения женщин, так и форм их репрезентации в литературе. Культура модерна активно экспериментировала с гендерными ролями и понятием андрогинности, а количество женщин-авторов, появившихся в начале XX века, несравнимо с предыдущими периодами истории отечественной литературы. В фокусе внимания этой коллективной монографии оказывается переломный момент в истории искусства, когда представление фемининного и маскулинного как нормативных канонов сложившегося гендерного порядка соседствовало с выходом за пределы этих канонов и разрушением этого порядка.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
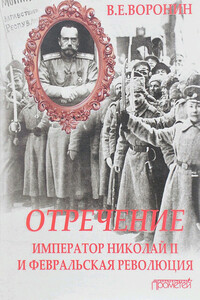
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.
