Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - [42]
Он — тот, кто знает, какой она должна быть и как ей нужно правильно вести себя. Анастасия в своем дневнике постоянно держит в уме этот заданный им идеальный образ и стремится быть им одобренной, боится не соответствовать этому идеалу. Последний включает в себя такие женские добродетели (получающие, конечно, особенный, личный смысл в данной ситуации), как умение быть самоотверженной, доброй, просвещенной матерью, терпение и способность мужественно, героически принять свою судьбу, вынести все невзгоды; спокойствие, сдержанность в выражении чувств.
Эта модель женственности, настроенная на одобрение адресата, ориентирована отчасти на христианский архетип женщины-великомученицы (знакомый нам по запискам Долгоруковой и Лабзиной), но еще в большей степени на литературный образ женщины-героини, спокойной, решительной и мужественной — один из женских типов русского неоклассицизма и гражданского романтизма[258].
Предполагаемая точка зрения Ты постоянно воспроизводится в тексте как некий «эталонный метр», инструмент самоконтроля и самопостроения.
Я это делаю, во-первых, потому, что ты мне так сказал, и, во-вторых, потому, что мое собственное сердце противится строгости (139 — >здесь важна, конечно, последовательность: что, во-первых, и что, во-вторых).
…мне кажется, что ты всегда около меня, ты меня видишь, ты смотришь на меня, мне кажется, что я вижу в твоем взгляде одобрение, когда делаю что-либо хорошее для детей (140).
…по-прежнему грущу, но стараюсь переносить с самым героическим мужеством печальную разлуку… (141).
Выделенное автором слово «героическим» (как и невыделенное «мужество») — это чужое слово, через употребление которого она стремится усвоить (присвоить себе) дискурс адресата.
Стремясь соответствовать представлению об идеальной матери, Анастасия Васильевна старается как можно больше писать о детях, об их здоровье, привычках, о том, как она рано вместе с маленьким встает: «Ты не узнал бы своей ленивой супруги, которая встала сегодня в 5 часов утра и играет с твоим сыном, в то время, как все кругом погружено в глубокое молчание. Вот, сударь, как выполняются ваши верховные непреложные приказания» (149); как она сама кормит детей, занимается с ними, гуляет по Москве: «надеюсь, что это похвально и что ты будешь доволен» (147).
Она старается и в молитвах следовать «тому, что ты мне сказал: ни о чем не молить Бога, кроме того, чтобы он меня просветил и очистил» (139), обещает не роптать, не сердиться, быть терпеливой — «Бог милостив, и я не буду отчаиваться» (142), — научиться «лучше владеть собой» (150), чтобы иметь возможность сказать: «Можешь гордиться своей женой» (150).
Однако попытки выстраивать свое Я исключительно по одобренной авторитетом мужского Ты модели оказываются не вполне успешными. Начиная почти с самого первого письма, можно видеть, как женское Я ведет с мужским корреспондентом спор (пусть сначала робкий, с постоянными извинениями), отстаивая право говорить о своих чувствах (что, с точки зрения воображаемого цензора, должно выглядеть как сентиментальная чувствительность, романтизм и женская слабость).
В десяти записях с 19 октября по 29 октября преобладает все же стремление «быть совершенной» (39), но уже в записи от 29.10 начинается бунт чувств, и она пишет об одиночестве и о пустоте своего существования, тотчас же испуганно извиняясь:
… но, прости, мой друг, я не хочу писать ничего такого, что могло бы тебя огорчить, — во всем виновато мое проклятое перо (143).
Тут же она нарушает и табу на чувствительные объяснения в любви, добавляя:
… ты в таких уже летах, что не можешь этого понять, и потом, не в укор будь тебе сказано, ты меня недостаточно любишь для этого. Вот еще глупость сорвалась с моего пера, брани его, что касается меня, то люби меня всегда очень и очень (144).
Интересно, что здесь женское Я как бы раздваивается: это перо бунтует и выскальзывает из-под контроля, не выдерживая заданной роли.
В следующих записях Якушкина пишет о своем физическом нездоровье, депрессии, истерике («я плакала, как сумасшедшая, и это мне принесло невыразимое облегчение» (144). Болезненное состояние, как и в случае Керн, разрушает корсет правил, разрешает быть несовершенной и говорить «языком сердца».
Не в обиду будь вам сказано, мой любезный друг, я самая несчастная из женщин, то есть жен, которые все имеют возможность отправиться туда, где они могут найти счастье, а ты мне отказал в единственном благе, которое могло бы меня привязать к жизни (144).
Я говорю глупости, сегодня плохой день для меня (144).
Разрешив себе «говорить глупости», Анастасия покушается на одну из самых главных «святынь» предписываемой ей модели женственности — на концепцию жертвенного материнства. Тут же ужасаясь собственному «кощунству», она в то же время выдвигает адресату прямые обвинения в деспотизме. 31.10 она пишет о детях:
…иногда не могу видеть их без ужасного содрогания. Это они являются препятствием к нашему соединению. Прости, милый друг, я чувствую, что я не права. Ведь это не их вина, что они существуют на свете, а скорее наша, и, несмотря на это, хотя это и редко бывает, они причиняют мне ужасное страдание. Я на коленях прошу у тебя прощения. Уверяю тебя, что я сделаю все возможное, чтобы быть благоразумной, но это мне стоит многого <…>. И ты сам захотел этого. Подумай немного, не правда ли, это черта некоторого деспотизма; ты должен был мне предложить выбор и немного подумать о своей бедной жене, которая любит тебя в миллион раз больше, чем когда-либо раньше (145).

Период с 1890-х по 1930-е годы в России был временем коренных преобразований: от общественного и политического устройства до эстетических установок в искусстве. В том числе это коснулось как социального положения женщин, так и форм их репрезентации в литературе. Культура модерна активно экспериментировала с гендерными ролями и понятием андрогинности, а количество женщин-авторов, появившихся в начале XX века, несравнимо с предыдущими периодами истории отечественной литературы. В фокусе внимания этой коллективной монографии оказывается переломный момент в истории искусства, когда представление фемининного и маскулинного как нормативных канонов сложившегося гендерного порядка соседствовало с выходом за пределы этих канонов и разрушением этого порядка.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
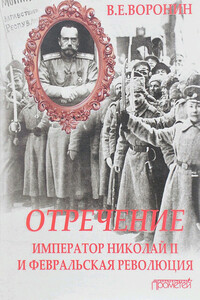
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.
