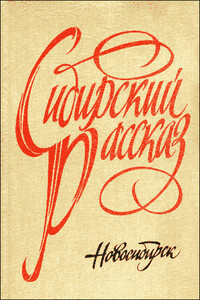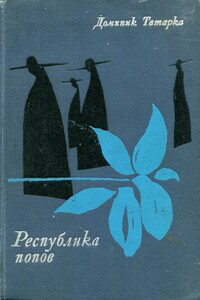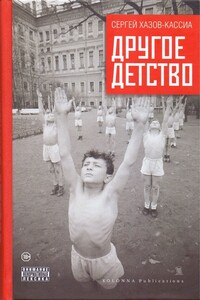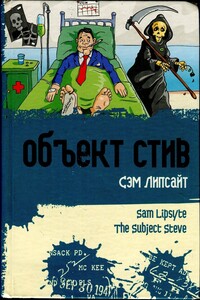Говорили с Василисой Константиновной больше о теперешнем, прошлого совместного не тревожили. Она все про внука рассказывала — какой он хороший, какая жена у него славная, где оба работают… Спросила только раз:
— Со Степаном советно живешь?
Да ничего, мол. Все у нас есть, корову держим.
— Ваню-то когда поминашь?
— Поминаю, мамонька.
Сказала и заплакала. Больше к тому не ворочались. Когда уезжала, припала к свекровушкиному плечу:
— Прости меня, мамонька.
К Октябрьской послала Дарья ей поздравительную открытку, а после Нового года пришло от Пелагеи письмо — померла Василиса Константиновна, неделю и прохворала всего. Царство небесное… Тихо померла, никого не намаяла.
На дворе стемнело, но все же веселились молодые, ходили парочки, не знающие войны, где-то играла музыка, и ярко светились окна клуба. Стыла на горе серая пирамидка, смутно белел вокруг утоптанный снег, и лежали на холодном бетоне недожившие до утра подснежники.
Тикали круглые часы, неразличимые, передвигались по кругу стрелки, отсчитывая время по заменявшим цифры черточкам… Полетели с рябого неба снежные хлопья, льнули к ресницам, таяли на мокром Дарьином лице, где-то в белой мятущейся мгле стучала телега и близился, нарастал уносимый ветром старческий крик:
— Выпрягайте, бабы! Ко-ончилась! Война ко-ончилась!
И кто-то другой, невидимый в белой метели, тихо произнес рядом:
— Теперь вечно будем жить… Ве-ечно…
Вздрогнув, она пробудилась. Чернела ночь, смолкли звуки, голоса, и было только слышно, как шумит на улице порывистый ветер.
Долго лежала, глядя в темноту, а когда уснула, приснилось однажды привидевшееся: закатное небо, ельник по-над яром, лодка на темной реке… И опять задохнулась во сне криком. И голос был нехорошим, сдавленным, словно задыхалась, словно билась в силках ночная птица.
А ветер на улице дул все сильнее. Налетевший с юга, он принес тепло, сгонял последний мокрый снег, сносил с крыши крупные капли, и, косо падая, они ударялись о темное оконное стекло. Будто кто-то вернулся, будто кто-то все стучался и стучался в свое окно…