Разбег - [3]
Но от себя ротмистр Демин не скрывал: в плане этом, по видимости таком безупречном, легко можно обнаружить и некоторые уязвимости. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»: тот именно случай. Перво-наперво (не дай бог, до этого и Шлихтин додумается!), где вы, ротмистр Демин, раньше-то были? Два дня ведь и две ночи прошло, а ну как злоумышленники уже перепрятали свою печатную крамолу? Теперь другое: где уверенность, что они вообще захотят переменивать тайники, а если и захотят, то почему обязательно сейчас, по горячему следу, когда вы тут с воинством своим лютуете? И наконец, третье: а не кажется ли вам, милостивый государь Петр Александрович (въедливо-снисходительным тенорком Шлихтина допрашивал себя Демин), что никакого потаенного транспорта вовсе и не было, а злополучные эти три пакета имеют какое-либо иное происхождение?
Да, дело дрянь, бесспорно; но, с другой стороны, не бездействовать же? За чрезмерное усердие, испокон ведется, никто не взыщет, пусть хоть оно, усердие это, во вред делу. Так что с «секретами» удачно придумалось, тут лучше переборщить: будет, на худой конец, чем оправдаться…
А что Кольчевский, пришло вдруг на ум Демину, он-то хоть верит в нынешнюю затею? Суетливая рьяность его ни о чем не говорит: в присутствии начальства всяк горазд ретивость выказать; а вот что в душе у тебя, на донышке? Может, и верит, шут его знает; всего с полгода на жандармской службе, надеждами всякими полон.
Ждать вестей, кои ночью могут поступить с «секретов», — нема, как говорят хохлы, дурных, пусть-ка уж Кольчевский покрутится, бессонным бдением хлеб свой отрабатывает. Сославшись на то, что не хотел бы даже и присутствием своим влиять на ход операции, ротмистр Демин отправился в отведенную ему — здесь же, в домике пограничного поста, — комнату. Прежде чем заснуть, обдумывал все Кольчевского; не понравился ему новоиспеченный жандармский ротмистр. Положительно, не так он прост, этот Кольчевский: «штучка»; по нынешним временам, такие как раз и делают карьеру, так что, гляди, как бы лет через пяток под началом у него не оказаться… Ну да ладно: как там ни будет, а покуда Кольчевский перед ним, ротмистром Деминым, на полусогнутых бегает. Набегаешься, родимый, ох как набегаешься еще и сколько ночей не доспишь, пока начальство — за стеночкой, как сейчас вот, — дрыхнуть изволит!
Разбудили Демина посреди ночи: гонец из деревни Смыкуцы. Младший объездчик Сурвилло по второму, должно быть, разу доложил (но все равно бестолково, с массой не идущих к делу подробностей), что пятеро мужиков с мешком прошли полем к крайнему дому, потом постучались в окошко, потом ненадолго скрылись в сарае, а потом — без мешка уже — ушли к дороге, все пятеро. У Демина вертелся на языке вопрос: а чего ж не задержали, отчего даже не попытались задержать? — но, взглянув на затравленную физиономию молодого объездчика, на его заискивающие от страха глазки, Демин понял, что именно этого вопроса тот и страшится больше всего, значит, бессмысленно и спрашивать, только время терять. Спросил о другом — более в данную минуту существенном:
— А точно — пять?
— Может, и шесть, а уж пять — это точно!
Похоже, не врет, подумал Демин; а и врет, лишних людей прихватить с собой не мешает: побыстрей обыск произведем. Отряд на славу получился — хоть в штыковую веди на супостата; шесть человек, если себя и ротмистра Кольчевского не считать; когда к Смыкуцам подкатили, седьмой еще прибавился — стражник Котлов, дожидавшийся подмоги в «секрете».
На всякий случай Демин приказал окружить дом; приказал Кольчевскому, а тот нижними своими чинами сам уже командовал. Покуда дверь отворили, пришлось изрядно постучать. Отворил хозяин; из-под старенького полушубка выглядывали подштанники и нательная рубаха. Звали его Иван Тамошайтис, что-нибудь под сорок. Еще в доме была древняя старуха, лет за восемьдесят (ее пока не стали поднимать с койки), и некая девица, служанка-работница, назвавшаяся Анной Спаустинайте; на вид ей было лет двадцать пять, не меньше, но на вопрос о возрасте она, к немалому удивлению Демина, ответила, что ей шестнадцать. Наблюдая за ней со стороны и вслушиваясь в косноязычный, маловразумительный ее лепет, Демин пришел к заключению, что она явно слаба умом, да и на лице ее, если попристальней вглядеться, легко уловить признаки врожденной придурковатости.
Тамошайтис разыгрывал святое неведение: спал как убитый, ничего не знаю. Довольно ловко вел свою игру, бестия; не будь Демину наверняка известно о недавних посетителях, пожалуй, и поверил бы. Что ж, пора сараем заняться; когда обнаружится мешок с таинственным грузом — по-другому заговоришь, голубчик!
В сарай отправились всем гуртом (Тамошайтиса тоже, понятно, прихватили с собой). Сарай содержался в завидном порядке: соха, бороны и прочая крестьянская утварь — все это стояло, лежало и висело на своих, явно раз и навсегда отведенных местах; любой сторонний предмет (тот же мешок хоть с литературой) сразу бросался бы в глаза. Нет, по совести, ничего чужого здесь не было. Но не полагаться же на первый, поневоле поверхностный огляд! Наитщательнейший осмотр надлежит произвести, во все уголки заглянуть, во всякую щелку влезть, до последней соринки перешерстить все. От четырех свечных фонарей (а и двух за глаза хватило б, сарай невелик) было светло как днем, точно уж любую соринку разглядишь — не то что мешок, битком набитый газетами. Правда, пачки с газетами могли уже извлечь из мешка, стало быть, не только мешок искать надобно…
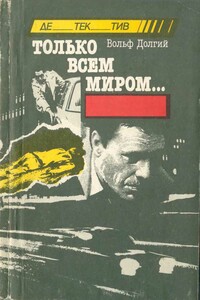
На окраине приморского города обнаружен труп водителя такси, а буквально в нескольких десятках метров от него — и свалившаяся под откос машина. Следственная группа под руководством подполковника милиции Чекалина расследует это дело. Сразу же становится очевидным, что убийство совершено не в целях ограбления и совершил его явно новичок, оставивший после себя множество улик. Кто он этот убийца?

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.
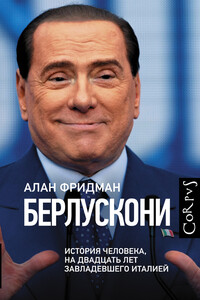
Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.
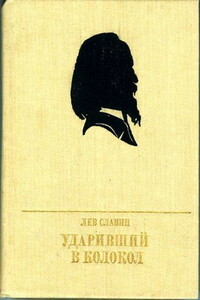
Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском.

Валерий Осипов - автор многих произведений, посвященных проблемам современности. Его книги - «Неотправленное письмо», «Серебристый грибной дождь», «Рассказ в телеграммах», «Ускорение» и другие - хорошо знакомы читателям.Значительное место в творчестве писателя занимает историко-революционная тематика. В 1971 году в серии «Пламенные революционеры» вышла художественно-документальная повесть В. Осипова «Река рождается ручьями» об Александре Ульянове. Тепло встреченная читателями и прессой, книга выходит вторым изданием.

Армен Зурабов известен как прозаик и сценарист, автор книг рассказов и повестей «Каринка», «Клены», «Ожидание», пьесы «Лика», киноповести «Рождение». Эта книга Зурабова посвящена большевику-ленинцу, который вошел в историю под именем Камо (такова партийная кличка Семена Тер-Петросяна). Камо был человеком удивительного бесстрашия и мужества, для которого подвиг стал жизненной нормой. Писатель взял за основу последний год жизни своего героя — 1921-й, когда он готовился к поступлению в военную академию. Все события, описываемые в книге, как бы пропущены через восприятие главного героя, что дало возможность автору показать не только отважного и неуловимого Камо-боевика, борющегося с врагами революции, но и Камо, думающего о жизни страны, о Ленине, о совести.
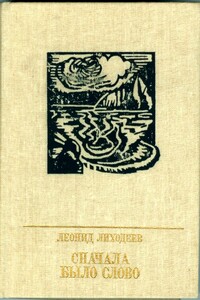
Леонид Лиходеев широко известен как острый, наблюдательный писатель. Его фельетоны, напечатанные в «Правде», «Известиях», «Литературной газете», в журналах, издавались отдельными книгами. Он — автор романов «Я и мой автомобиль», «Четыре главы из жизни Марьи Николаевны», «Семь пятниц», а также книг «Боги, которые лепят горшки», «Цена умиления», «Искусство это искусство», «Местное время», «Тайна электричества» и др. В последнее время писатель работает над исторической темой.Его повесть «Сначала было слово» рассказывает о Петре Заичневском, который написал знаменитую прокламацию «Молодая Россия».