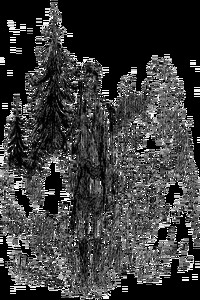Рай в шалаше - [30]
Денисов верил только в эксперимент, и Наталья у них в лаборатории, и Виктор, и Ираида Павловна ничего, кроме эксперимента, не признавали, а их мудрый, старый, дышащий на ладан шеф лишь посмеивался в ответ, когда они на совещаниях побивали друг друга цифрами и фактами, и только молодо играл бровями, словно пытался намекнуть, что возможны и другие пути, другие способы изучения человека. Он изредка взглядывал на Таню и тут же отводил глаза, чтобы, не дай бог, она не поняла его намеков, которые он делал скорей самому себе, вполне достойно соблюдая все правила игры в сугубо инструментальную, оснащенную техникой эксперимента науку об изучении природы человека. Внешне шеф согласен был расщеплять эту природу на кусочки и изучать их по отдельности, условившись с коллегами полагать, что эти отдельные кусочки, собираемые вместе, как в игрушечном конструкторе, и есть живой человек со всеми своими тайнами, радостями, болями и страданиями... Они, старики, договорились об этом слишком давно, когда Тани еще на свете не было, и объявили все это наукой психологией, и игру эту придется продолжать до тех пор, пока... пока не изменится общая парадигма. Но ведь она уже менялась не раз и не два, и уже были времена, когда неприлично было ссылаться на эксперимент. Был период в истории науки, когда убедительным казалось лишь то, что подкреплялось авторитетом Аристотеля. Эксперимент же, любой, искренне презирался. Он считался опасным, даже вредным. Микроскоп для XVI века — это дурной тон, это все равно что сейчас встать, допустим, на семинаре у Капицы и объявить: «Я в это верю, потому что видел это во сне». В XVI веке смеялись над безумцами, которые говорили: «Я видел это в микроскоп». В микроскоп, какая наивность! Какая лженаука!
Но парадигма в последние годы и впрямь пошатнулась, это почувствовали старики биологи, об этом догадывается молодежь, которая не зря потянулась к гуманитарии, это предвещал Бахтин, написавший, что современная наука нуждается не в точности, а в глубине. Может быть, Таня как-то и переиначивала для себя слова человека, чьи работы, чей жизненный подвиг безмерно уважала, но точность в науке перестала выигрывать, это ощутили многие, и не случайно, видимо, так болезненно защищал ее Денисов. Ему без точности не обойтись, его область знаний на этом построена, но, защищая свое, кровное, он в запальчивости безмерно расширял границы, науке подвластные...
Так, может быть, слишком тяжеловато, то есть по-своему, по-научному, думала Таня, слушая денисовские пассажи о шатрах, домбрах, кочевьях — цивилизации, сложившейся по восточному типу.
Денисов между тем пил рюмку за рюмкой, и Костя от него не отставал, и Нонна... Может быть, они слишком много выпили, а Таня, задумавшись о своем, этого не заметила?
...И тут пошел дождь, громкий, обильный, и не слышны стали шумы за окном, и замолк Денисов, и тут раздался гром, редкий в середине сентября.
— О богохульник, о безумец! — воскликнул Цветков. — Ты навлек на нас громы и молнии, гнев господень. Что с ним сегодня, Танечка?
Дождь шумел, бил в стекла, воду заливало в форточку. Таня пошла закрыть окно в своей комнате. И в комнате своей показалось Тане что-то не так. Тахта была не прибрана: подушка вздыблена вверх, пододеяльник торчал из-под пледа. Может быть, это Нонна отдыхала, вернувшись? Вряд ли, у нее была своя постель в кабинете Денисова. И кресло не так развернуто к окну, словно в спешке его толкнули небрежно, и занавески задернуты. Утром Таня их раздвинула, она глядела в окно, провожая Петьку: мальчик с ранцем, бегущий в мир, где мать никто, из этого окна Петю дольше всего видно... нет, она просто устала, кажется все, наверное... не может быть. А почему не может быть? Почему Денисов так смутился, когда ее увидел? Зачем так наступателен в разговоре? Захотел понравиться аспирантке? Отгородиться от жены? Все невозможно в его словах для Тани, и все оскорбительно, и Денисов это знал, — младенцы, убить, Иуда, Ирод, слезинка ребенка...
А дождь все шел, не успокаивая, и совсем темно стало за окном, и от слабости кружилась голова. Наконец Таня поднялась со своего старенького скрипучего кресла: ей уже важно было понять, что же на самом деле происходило сейчас на кухне.
...А на кухне происходило все то же. Дождь успокоился и стучал в стекла печально и размеренно, словно собрался на всю жизнь. Костя совсем сник, Денисов был оживлен и смотрел победителем, Нонна глядела на него с прежним восторгом, так показалось Тане. И снова длился тот же разговор: Голгофа, Варавва, Гефсиманский сад, — слушала Таня, как в тумане... брак, семья, ваши цифры, ваши разговорчики, ваша нравственность, выпьем еще, хрен с вами, за вашу нравственность...
Таня глядела на мужа так внимательно, как не глядела, возможно, со времен знакомства: неужели это могло произойти? И почему именно с этой девицей, малопривлекательной, ординарной? Впрочем, что понимают в таких делах женщины? Да ничего. Неужели все-таки это случилось? Поспешно, воровато, и они, наверное, еще разговаривали при этом, и сейчас Нонна вела себя легко и непринужденно. Наверное, даже предупредила Денисова: «Будем считать, что ничего не произошло», и он согласился, как-нибудь так, в своем стиле: «Вот и чудно», а она в ответ: «Мне было интересно с вами, Валентин Петрович!» — «Практический интерес?» — поинтересовался Денисов. «Да», — наверное, ответила она. А Денисов не спустил: «Вы же в своей психологии теоретик, экспериментатор вы только в постели?» А Нонна засмеялась и выдала что-нибудь в таком роде: «Вы меня не осчастливили, между прочим, и ничего нового я от вас не узнала, и вообще я спешу, мне нужно в библиотеку, у меня там диссертации заказаны» — что-то в этом духе она обязательно ему приврала. И тут Денисов, наверное, растерялся: «Вы сами дали мне понять». — «А зачем было понимать?» — спросила Нонна.
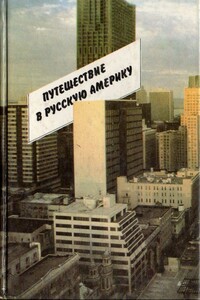
Новая книга Галины Башкировой и Геннадия Васильева поможет читателю живо увидеть малоизвестный для нас мир русских (как называют на Западе всех выходцев не только из России, но из всего СССР) эмигрантов разных лет в Америке, познакомиться с яркими его представителями — и знаменитыми, как Нобелевский лауреат, экономист с мировым именем Василий Васильевич Леонтьев или художник Михаил Шемякин, и менее известными, но по-человечески чрезвычайно интересными нашими современниками.
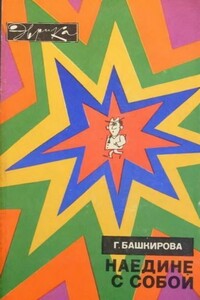
Что мы знаем о себе, о секретах собственной психики? До конца ли мы реализуем возможности, отпущенные нам природой? Можем ли мы научиться прогнозировать свое поведение в горе и в радости? А в катастрофе, в аварии, наконец, просто на экзамене? А что нам известно о том, как формировался в веках психический склад личности? О том, что такое стресс и как изучают его психологи?Человек и становление его духовного мира, парадоксы нашей психики, эмоциональное осмысление того нового, что несет с собой научно-техническая революция, нравственные аспекты науки.Прим OCR: Это одна из нестареющих книг.
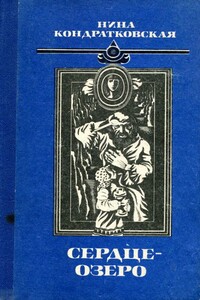
В основу произведений (сказы, легенды, поэмы, сказки) легли поэтические предания, бытующие на Южном Урале. Интерес поэтессы к фольклору вызван горячей, патриотической любовью к родному уральскому краю, его истории, природе. «Партизанская быль», «Сказание о незакатной заре», поэма «Трубач с Магнит-горы» и цикл стихов, основанные на современном материале, показывают преемственность героев легендарного прошлого и поколений людей, строящих социалистическое общество. Сборник адресован юношеству.

«Голодная степь» — роман о рабочем классе, о дружбе людей разных национальностей. Время действия романа — начало пятидесятых годов, место действия — Ленинград и Голодная степь в Узбекистане. Туда, на строящийся хлопкозавод, приезжают ленинградские рабочие-монтажники, чтобы собрать дизели и генераторы, пустить дизель-электрическую станцию. Большое место в романе занимают нравственные проблемы. Герои молоды, они любят, ревнуют, размышляют о жизни, о своем месте в ней.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.
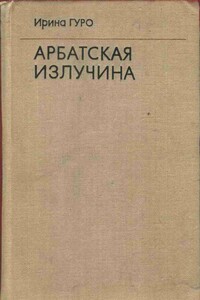
Книга Ирины Гуро посвящена Москве и москвичам. В центре романа — судьба кадрового военного Дробитько, который по болезни вынужден оставить армию, но вновь находит себя в непривычной гражданской жизни, работая в коллективе людей, создающих красоту родного города, украшая его садами и парками. Случай сталкивает Дробитько с Лавровским, человеком, прошедшим сложный жизненный путь. Долгие годы провел он в эмиграции, но под конец жизни обрел родину. Писательница рассказывает о тех непростых обстоятельствах, в которых сложились характеры ее героев.

Повести, вошедшие в новую книгу писателя, посвящены нашей современности. Одна из них остро рассматривает проблемы семьи. Другая рассказывает о профессиональной нечистоплотности врача, терпящего по этой причине нравственный крах. Повесть «Воин» — о том, как нелегко приходится человеку, которому до всего есть дело. Повесть «Порог» — о мужественном уходе из жизни человека, достойно ее прожившего.