Растождествления - [98]
Я говорю о потерях Э. А., ни на минуту не упуская из виду приобретений, а значит, недовольств его духа. Сказать: он был философ, можно, лишь оговорив смысл слова «философ»: не нынешний коррумпированный, а старый настоящий: Э. А. был метафизик, чувствующий себя в тепле и уюте среди ледяных абстракций. Конечно же, при том уровне метафизической чувствительности, которого он достиг, у него были все основания стать мизантропом, но и достаточно умной воли и вкуса избежать этого; он никогда не путал логику с моралью и никогда не подставлял под major силлогизма оценочных суждений (скажем, вместо школьно–логического: «все люди смертны» нечто типа: «все люди жалкие и подлые твари»). Характерно, что внешне он облекся в маску лингвиста, специалиста–языковеда; это помогало ему отвлекать недалеких малых с философского факультета (а в идеале и «отдел кадров») на ложный след. С другой стороны, он как бы нуждался в некоторой асимметрии, своего рода смещении перспектив для более острых контемпляций; похоже, лингвистика, в которую он профессионально облекся, была лишь хитростью его духа, замаскировавшегося под идеологически более нейтральную дисциплину, чтобы тем адекватнее и полнее отдаваться риску философских погружений. Кстати, Э. А., прежде чем поступить на филологический факультет, проучился около месяца на физико–математическом, перерешив едва ли не все задачи в объеме курса и — заскучав; он оставил физику, после того как смог её и потому что смог; представить его себе физиком было бы так же трудно, как богословом; я думаю, физика отпугнула его как раз реваншем теологии, не нашедшей для христианского Бога более подходящей теодицеи, чем вогнав его в измерительные приборы физического кабинета… Он предпочел филологию, не классическую, а никакую, нашу, Луначарскую, в которой студент стоял перед своеобразным выбором: либо не научиться тому, чему учили, либо же научиться тому, чему не учили; как оказалось, именно эта филология стала ему идеальным местом для его последнего решения: быть философом. Философом par excellence, неспособным ни к какой догматике и готовым к любым поворотам и капризам мысли. Э. А. был как–то пугающе молод душою; несомненно: карма Строителя Сольнеса не была его кармою; он никогда не обещал строить высоких башен, по той причине, что и не делал ничего иного, а при случае сам не прочь был напомнить иной Хильде, что юность — это возмездие. Он мыслил весомо и стремительно. Никогда не забуду: мы шли куда–то вместе; на костылях (их оставила ему с детства скарлатина) он несся так быстро — вперед и словно бы вверх, что я едва поспевал за ним. Он втыкал костыли в землю вперед от себя и мигом перелетал размеченные расстояния, равные моим двум или трем шагам (Лишь позже я догадался, что видел его мысль, уплотненную в имагинацию.) Вообще чем грузнее и неповоротливее он выглядел, тем воздушнее и взрывчатее была его мысль. Он увешивался тяжелыми гирляндами понятий и схем, и только потом начинал выпускать джиннов из бутылки; это поведение характерно для его книг, которые, начинаясь и продолжаясь в академическом режиме, периодически нарушались сейсмическими толчками; мотто Фюстель де Куланжа: «век анализа на день синтеза» выглядело в его случае нормой стиля: чем скованнее и пасмурнее являло себя пространство книги, тем неожиданнее и ярче ошеломляло оно в отдельных местах и особенно на исходе. Представьте себе себя, как читателя, движущимся, страница за страницей, сплошь и рядом среди «гиппопотамов» и вдруг натыкающимся на «мотыльков»; после тяжелых заупокойных академизмов, на фоне которых облегчением показалась бы не только головная боль, но и зубная, вас вдруг настигает неожиданное, непредсказуемое, головокружительное, что–то вроде: «О, бабочка, о, мусульманка,/В разрезанном саване вся,/ Жизняночка и умиранка,/ Такая большая — сия». Кстати, Э. А. открыл мне Мандельштама, а точнее, те нехоженности несказанного, в которых шевелились (прежде шепота) губы автора «Грифельной оды». Рикошет несколько диковатый: от Гегеля к Мандельштаму, но надо было, в самом деле, обладать музыкальностью Э. А., чтобы услышать здесь энгармонически равные синтаксисы; философский язык Гегеля, шокировавший Шиллера и Гёте, столь же непредсказуем, как поэтический язык Мандельштама: поле смысловых притягательностей растянуто в обоих случаях до поп plus ultra. Я думаю, Э. А. не в последнюю очередь оттого так тянулся к Гегелю, что слышал в нем, за косолапостью языковых движений,
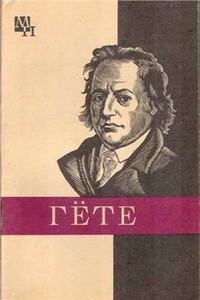
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.

Главная тема книги — человек как субъект. Автор раскрывает данный феномен и исследует структуры человеческой субъективности и интерсубъективности. В качестве основы для анализа используется психоаналитическая теория, при этом она помещается в контекст современных дискуссий о соотношении мозга и психической реальности в свете такого междисциплинарного направления, как нейропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор переходит непосредственно к рассмотрению структур субъективности и вводит ключевое для данной работы понятие объективной субъективности, которая рассматривается наряду с другими элементами структуры человеческой субъективности: объективная объективность, субъективная объективность, субъективная субъективность и т. д.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге в популярной форме изложены философские идеи мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и современной эпохи. Задача настоящего издания – через аристотелевскую, ньютоновскую и эйнштейновскую картины мира показать читателю потрясающую историческую панораму развития мировой философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаемый труд не является развлекательным или легким для чтения. Я бы рекомендовал за него браться только людям, для которых мыслительный процесс не является непривычным делом, желательно с физико-математической подготовкой. Он несет не информацию, а целые концепции, знакомство с которыми должно только стимулировать начало мыслительного процесса. Соответственно, попытка прочесть труд по диагонали, и на основании этого принять его или отвергнуть, абсолютно безнадежна, поскольку интеллектуальная плотность, заложенная в него, соответствует скорее краткому учебнику математики, не допускающему повторения уже ранее высказанных идей, чем публицистике.