Растождествления - [100]
Память сохранила мне первый отпечаток, которому я не могу подобрать иного слова, кроме великолепие. Он был — великолепен, этот внезапно данный, отданный свидетель культуры: великолепен в обоих смыслах слова, переносном и буквальном; великолепие жило в нем не только тропом по сходству, но и оригиналом факта, где анатомия переставала служить медицине, служа законам кисти и резца. Совсем недавно, видя его на сцене, сидящим и опершимся на трость, я подумал о том, что должен был чувствовать Донателло, когда, уставившись глазами в изваянную им фигуру Цукконе, он закричал: «favella! favella!» — «да говори же! говори!»
Лекция, услышанная мною тогда и длившаяся полугодие, сложилась в годах в новый орган восприятия. Я лишь смутно подозревал, как такое вообще возможно, но я наверняка знал, что без такого «как»бессмысленным оказывалось всякое «что»; совсем недавно узнанные слова Ницше: «Мир может быть оправдан только как эстетический феномен», скликавшиеся с недавно же узнанной формулой Достоевского: «Красота спасет мир», все пятьдесят миров чуждых восторгов, от бессмертных шиллеровских «Писем об эстетическом воспитании» до гипнотической стилистики Флобера и Уайльда, вся бессонная, драгоценная, запойная контрабанда моего противоуниверситетского самообразования, мучительно распирающая меня фактом вопиющего несоответствия с действительностью, вдруг во мгновение ока разрешилась в консонанс. Дело было не в плохих или хороших лекциях; лекции временами оказывались вовсе не дурными, особенно на фоне невообразимого глумления над тематикой отдельных дисциплин; дело было в «как» этих лекций. Я видел (беря лучшие примеры) отлично осведомленные головы, сидящие на плечах, ниже которых прекращалась всякая осведомленность и начиналось нечто подобное тому, что в астрофизике называется парадоксами сингулярности. Передача знаний имитировала телеграф: предполагалось, что голова профессора подает сигналы, а голова студента фиксирует их на ленте; этому телеграфу был я обязан еще со школьной скамьи равнодушием к поэзии Пушкина (болезнь, освобождаться от которой приходилось потом годами). Ибо нет и не было более верного средства сделать человека антипушкинианцем (анти чем угодно), чем вводя подростка в мир поэта на языке, по сравнению с которым шедеврами стилистики показались бы доносы на Пушкина в канцелярию графа Бенкендорфа. Короче говоря, дело было не в«информации», а в человеке. Я видел лектора, похожего, как две капли воды, на то, о чем он говорил; он говорил, сжигая за собой мосты; в бой были пущены все резервы телесной пластики, и когда с уст его срывались слова, в них раззвучивались не только данные голоса, но и глаза, нос, скулы, руки, ноги, спинной мозг, что я говорю: мышцы, все до одной. Это потрясло меня с первых же минут: тончайшая оркестровка мышц, аккомпанирующих голосу; правда слов подтверждалась не логикой, а нейрофизиологией.
О чем он говорил, помню смутно. О Пиндаре, Архилохе, Софокле, о причудливом греческом мире, где послов избирали по красоте и где афинские торговки зеленью обсуждали очередную речь Демосфена. Помню еще головокружительные маршиброски: от Софокла к Блоку, от Блока к импрессионистам или (может быть) к флорентийским гонфалоньерам XV века. Единственное, что помню, как сейчас: чувство катастрофичности, не покидавшее его ни на секунду и передавшееся нам, даже тем из нас, кому оно было противопоказано. Катастрофизмом был проникнут каждый его жест, каждая его пауза; так он вбивал, вживлял в нас исключительность своей темы. Можно было измерить пульс до и после того, как он начал говорить о Софокле или Перикле, чтобы убедиться в том, насколько физиологично подлинное знание; шума и ярости требовала его тема; чтобы угнаться за ней, приходилось мыслить не головой, а телом, тоскующим по гимнастике, и переживать сказанное не метрономически, а сейсмически. Настоящая «информация» усваивается на грани, разделяющей сознание от обморока; она не набивает голову справочными данными, а вламывается в симптоматику жизненных процессов, меняя ритмы крови, обмена веществ, истребляя вирусы отчужденности, весь бактериологический арсенал тупости и безучастия. Так (продолжая тему греческой культуры) «информировал» Сократ. «Когда я слушаю его, — признается Алкивиад, — сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы».
Сейчас, по прошествии двадцати лет, могу признаться и я: хотя глаза мои на этой лекции оставались сухими (этого требовало единство времени и места вопреки требованию действия), зато сердце мое билось гораздо сильнее, чем когда–либо до и после при восприятии живого слова.
Громадная эрудиция (которой я не перестаю удивляться до сих пор в нашем общении) жила в нем по всем правилам большой приключенческой и внебрачной жизни. Он прожигал свои знания со страстью профессионального игрока, в стиле постоянного va–banque, где ставка делалась на выигрыш или проигрыш мгновения, но, даже проигранные, эти мгновения ослепляли сознание щедростью жертвы и величием осанки. Предугадать технику игры было невозможно: он мог начать с вежливых намеков на пробелы нашей культуры и вдруг, разъярившись, зашибать нас знаниями, как кегельбанными шарами. Разъяренность его всегда изживалась в рамках несравненного художественного вкуса; со временем я понял, что этот человек в каждом атоме своих проявлений как бы хронически обречен на
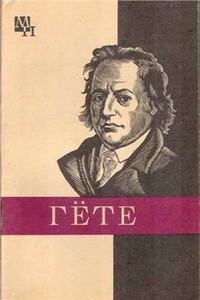
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.

Главная тема книги — человек как субъект. Автор раскрывает данный феномен и исследует структуры человеческой субъективности и интерсубъективности. В качестве основы для анализа используется психоаналитическая теория, при этом она помещается в контекст современных дискуссий о соотношении мозга и психической реальности в свете такого междисциплинарного направления, как нейропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор переходит непосредственно к рассмотрению структур субъективности и вводит ключевое для данной работы понятие объективной субъективности, которая рассматривается наряду с другими элементами структуры человеческой субъективности: объективная объективность, субъективная объективность, субъективная субъективность и т. д.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге в популярной форме изложены философские идеи мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и современной эпохи. Задача настоящего издания – через аристотелевскую, ньютоновскую и эйнштейновскую картины мира показать читателю потрясающую историческую панораму развития мировой философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаемый труд не является развлекательным или легким для чтения. Я бы рекомендовал за него браться только людям, для которых мыслительный процесс не является непривычным делом, желательно с физико-математической подготовкой. Он несет не информацию, а целые концепции, знакомство с которыми должно только стимулировать начало мыслительного процесса. Соответственно, попытка прочесть труд по диагонали, и на основании этого принять его или отвергнуть, абсолютно безнадежна, поскольку интеллектуальная плотность, заложенная в него, соответствует скорее краткому учебнику математики, не допускающему повторения уже ранее высказанных идей, чем публицистике.