Расставим антроповехи! - [12]
Олег Аронсон: Вас не подловить!
Сергей Сергеевич Хоружий: Нет, а я вообще не понимаю, зачем меня ловить? Я — вот он, бери меня за рупь за двадцать! В моих текстах понятия сингулярности нет, оно более к месту в топологических дискурсах, у Делеза, вот туда оно встраивается органически. В кьеркегоровский дискурс тоже встроилось бы, но уже в существенно другом смысле.
Олег Аронсон: Спасибо.
Олег Кулик: Жора Литичевский хотел задать вопрос.
Георгий Литичевский [9]: Дмитрий Гутов в своем вопросе напомнил нам о том, что всех здесь собравшихся могут более всего интересовать и даже волновать духовные функции искусства. Вы все же ориентировали их на то, что художественная практика — это практика следования им заданному и ими избранному …
Сергей Сергеевич Хоружий: Ну это уже некоторое дальнейшее огрубление, сверх того что я говорил…
Георгий Литичевский: Да я огрубил, но есть предположение… что искусство в Вашей терминологии не является абсолютно позитивным размыканием, но не является и негативным размыканием в предполагаемое бессознательное. Вы ставите, если возвращаться к Вашей философии, знак равенства между Аристотелем и Кантом, и я не буду это оспаривать. Но так или иначе и Аристотель говорил о практике, которую можно считать отчасти духовной практикой, — это ощущение катарсиса. А Кант уже говорит об охватывании сознанием некоего возвышенного. Это возвышенное можно уподобить какому-то иному пути. То есть у Канта речь идет об искусстве, как о вполне духовной практике, которая даже выходит из-под критики, которой он подверг чистый разум. Ведь говоря об искусстве он подвергает критике только самих критиков, он подвергает критике их право на суждение. В то время как сами художники, — это как-то можно вычленить из контекста, — носители именно духовной практики.
Сергей Сергеевич Хоружий: Конечно, знака равенства между Аристотелем и Кантом я и не думал ставить, а только сблизил их как основоположников европейской антропологии. Вы же говорите о соотношении сих великих фигур в эстетике, и тут оно, Вы правы, совсем иное нежели в антропологии. Об их эстетике я ничего покуда не говорил, и сейчас о каждом по полслова скажу.
Кант очень как раз подходит для прояснения эстетических основ. По Канту, функции искусства вполне укладываются в то соотношение, которое я слишком бегло обозначил. Об этом, конечно, нужно было тоньше и подробнее. Кантовская трактовка искусства — типичнейшая эстетика Прекрасного и Возвышенного, классическая эстетика, Баумгартнеровская и так далее. По этой эстетике, искусство именно так и действует, как я говорил: оно принимает как данность некий бытующий в данной культуре способ размыкания (обычно берет оно способ доминирующий, но может взять и не доминирующий). Оно его не трансформирует, не берется его куда-то менять, но оно его культивирует в полномерном, полноохватном жизненном переживании. Эстетический идеал Прекрасного и Возвышенного не автономен, а производен: производен от определенной онтологии, которая базируется на концепте Бога, утверждаемого как Благо-Истина-Красота, и отвечает онтологическому размыканию человека. А устанавливает, конституирует человека нечто другое — уже не искусство, а сам этот способ размыкания как таковой. Искусство учит человека быть на самом деле и по-настоящему — человеком. А каким человеком, вот этим уже заведует не оно.
Что же до Аристотеля, то концепт катарсиса, конечно, тут же ассоциируется с духовной практикой. Но характер их связи непросто описать. Антропологическое размыкание исторично, и греческая античность еще не имела какой-либо его зрелой формы (вспомним, что часто говорят: понятие личности родилось только с христианством). Тем самым, античный человек отнюдь не имел структур личности и идентичности позднего типа, строимых на базе некой стержневой размыкающей практики. Имел же он некоторые эмбриональные структуры, прото-структуры. В ранних обществах и культурах многие культурные и духовные формы еще не различены, не выделились отдельно и не отделились друг от друга; и, в частности, — о чем написано достаточно — в такой первичной неразделенности существовали Религия и Искусство. В такой же неразделенности, соответственно, были и их вклады, их функции в строительстве идентичности античного человека (прото-идентичности, если хотите); и концепция катарсиса несет отпечаток этой ситуации.
Олег Кулик: А не противостоит ли оно этому, что заведует, чему быть человеком?
Сергей Сергеевич Хоружий: Может противостоять. Оно способно, вообще говоря, избрать такую позицию, противостоящую — ориентироваться не на господствующие практики размыкания, а на какие-либо другие. Типичнейший пример — вызывающая ориентация сюрреализма на практики бессознательного, в пику еще доминировавшей христианско-церковной ориентации. Важно, однако, что на какой-то способ размыкания оно всегда будет ориентироваться, и базовое различие: стержневая практика — примыкающая практика, будет в силе.
Олег Кулик: Но Церковь считает, что все искусство, которое неканоническое, оно дьявольское.
Сергей Сергеевич Хоружий: Отнюдь не всегда она столь упрощенно считает, но не в этом дело. Вот я ввел термины «примыкающая» или «ассоциированная» стратегия. Так вот, искусство, или художественная практика, может выбрать себя примыкающей к одним размыкающим стратегиям, а может — к другим. Может ассоциироваться с духовной практикой, или же с практиками безумия, бессознательного; и вариант последний, как только что я сказал, крайне типичен для модернистских художественных устремлений. Затем в постмодернизме типична стала ориентация на виртуальные практики. Вот такая автономия у искусства вполне имеется. Но в любом случае, самóй базовой размыкающей стратегией оно не становится.

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.

Заметки к онтологии виртуальностиИсточник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)
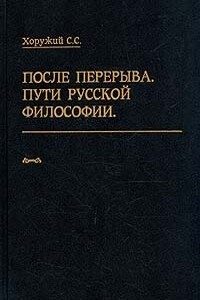
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".

В историю русской мысли, русской культуры Владимир Сергеевич Соловьев входит не только своим творчеством. Особой малой традицией в эту историю входит также обычай отмечать дату его кончины, обычай поминок по Соловьеву. Отчасти такую традицию, видимо, породил известный танатоцентризм русского и православного сознания, их поглощенность темой смерти и воскресения: как не раз отмечали, русская культура соловьевской эпохи была своего рода культурой поминок, в которой особо значимыми событиями служили кончины и юбилеи кончин духовных лидеров и учителей.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.