Рассказы - [37]
"Может быть, рассказать ему свой сон с собаками? — с краю все думалось ей. — Или лучше не говорить? Подожду, может быть и скажу".
— Ну, конечно, конечно, — с тем же торопливым нетерпением ответил Малинин, — ее волнение сообщилось и ему, — это не Бог, а в стороне от Бога, может быть меньше Его, может быть больше, что, однако, нисколько не умаляет Его, — поспешил он ее успокоить. — Я в Бога тоже верю, ужасно верю, но и Вечно Единое, или судьба, или рок, или Непознаваемое так же несомненно. Все, рожденное духом человеческим, несомненно. Но это я в другой раз докажу, — еще больше заторопился Малинин. — Второй ваш вопрос интереснее, и вот какой со мной случай был. Я сидел с товарищами у себя в мастерской. Говорили на мистические темы. Я доказывал нашу, до последних мелочей, зависимость от сил, которых умом мы постигнуть не можем. Меня подняли на смех. Тогда, чтобы разрешить наш спор, я предложил сделать опыт.
— Какой же такой опыт? — спросил один из товарищей.
— А я сейчас при вас выстрелю себе в голову, — ответил я, — и если я не должен был умереть от пули, то никакие физические силы не вызовут выстрела, и я останусь цел.
— А если ты должен был умереть от пули? — рассмеялся второй. — Нет, это глупо, ты несомненно умрешь, наделаешь нам хлопот и, главное, ничего не будет доказано.
— Вы циники, — ответил я, — но я вас не выпущу. Я изменю опыт и доказательность его не пострадает. Я выстрелю себе в руку, и если не должно было быть, выстрела не последует.
— Руку искалечишь, — сказал третий, — брось эту затею.
— Почему же мне не выстрелить, если я твердо верю, что и наш спор, и все его последствия предрешены, — ответил я.
— Слушайте, — снова посмотрев на Малинина, воскликнула Марья Павловна, — ужели вы выстрелили?
— Ну, конечно, — сказал он. — Я достал свой револьвер, и пока товарищи проверяли его, я пережил вечность. Впрочем, то, что я тогда чувствовал, не относится к делу, — нахмурился Малинин.
— Готово? — спросил я.
— Готово, — ответил первый.
— Для вторичной проверки, — сказал я, — первый мой выстрел будет в стену.
Я не целясь спустил курок. Мы подошли к стене, все указали на отверстие, сделанное пулей.
— Теперь я выстрелю себе в ладонь, — сказал я, — и, конечно, для вас опыт будет убедителен, если выстрела не последует.
Я прижал дуло револьвера к ладони. Я сильно нажал курок и закрыл глаза… Раздался сукой звук осечки…
— Браво, — крикнул второй художник и бросился вырывать у меня револьвер.
— Нет, погоди, — почти без голоса сказал я, — ты раньше признай, доказал я?
— Случай, — сквозь зубы пробормотал первый.
— Хорошо, — отозвался я, — тогда будем продолжать опыт…
И я снова выстрелил… Вторая осечка. Все бросились ко мне.
— Нет, — сказал я, — теперь я хозяин положения, я для себя, а не для вас, попробую третий раз.
Да, я чувствовал, что действую не по своей воле, а как будто слышал приказание: "стреляй"!
И я выстрелил… Осечка… Тогда я в каком-то безумном восторге повернулся к стене. Грянул выстрел…
— Послушайте, — потрясенная рассказом, крикнула Марья Павловна, — но ведь это… это… — Она стала искать слова, чтобы выразить свое впечатление… — А знаете ли, — вдруг неожиданно для себя сказала она, пристально глядя на него, — ведь вы раньше угадали, мне и в самом деле было неприятно, когда вы подошли ко мне. А теперь…
— А теперь? — переспросил он, не решаясь взглянуть на нее.
— Ах, это не важно, — нетерпеливо сказала она, занятая своей мыслью, — ведь если согласиться с вами, то нужно признать, что и наша встреча была предопределена, что наши линии жизни пересеклись. Ведь так, или нет? А если да, то какое же это имеет значение?
— Не знаю, — тронутый ее тоном, искренно ответил он. — Но как скучно было бы наперед знать будущее. Вся таинственность, вся поэзия и значительность нашей жизни исчезла бы, мы стали бы ниже животных…
— Да, да, это верно, — согласилась она. — А я очень жалею, что не знаю ваших картин, — опять вдруг, то есть неожиданно для себя произнесла она.
— Я был бы счастлив, если бы вы пришли ко мне в мастерскую, — обрадовался Малинин, — но я боюсь, что мои картины не понравятся вам. У меня вы не найдете пейзажа, портрета, композиции. Художники отрицают мои работы. Я не интересуюсь ни формой, ни сюжетом, ни линией. Представьте себе, — с большим оживлением заговорил он, — что вы захотели бы написать красками симфонию, сонату Скрябина. Конечно, о форме тут не может быть речи. Сама мысль о форме уже является помехой. Вы согласны? Да, это требует необычайного напряжения духа, воли, потому что, видите ли, чрезвычайно трудно победить собственную косность, школьную выучку. Я написал картину "Мистическое". Красное пятно в центре, очень яркое, теплое, пронзительно теплое — ах, как художники потешались над ней, — вспомнил он, — и во все стороны от него, но не больше крыла бабочки, новые, однако менее теплые карминные тона, перерезаемые темно, темно-синими спиралями-ограничениями… впрочем, — вдруг оборвал он, — что это я делаю, чем занимаю ваше внимание?
— Нет, говорите, говорите, я все, все понимаю, — почти умоляюще сказала Марья Павловна, — мне очень интересно слушать. И кажется, мы будем друзьями. Это мне будет наказанием за то, что я, не зная, плохо судила о вас, — опустив глаза, повинилась она. — Вы так не похожи на других… Чего бы мужчина не наговорил женщине на вашем месте, вы видите, как я откровенна с вами…
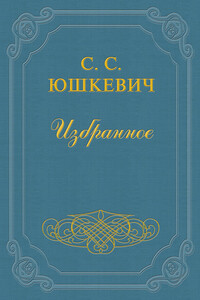
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
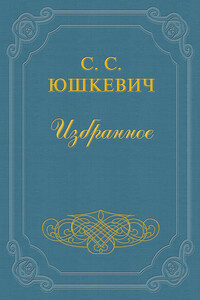
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
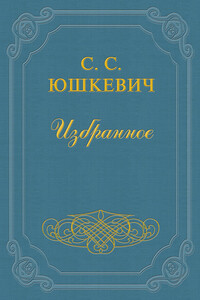
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
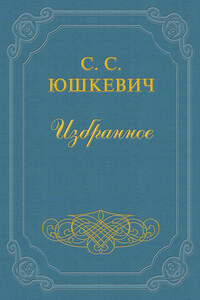
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
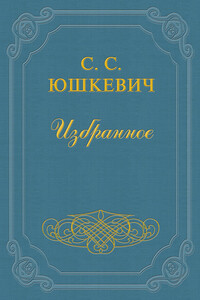
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)