Рассказы - [14]
— Я тебе тоже это хотел сказать, Фейга, — с трудом произнес Иерохим, привстав. — Ты видишь мое положение, — он махнул безнадежно рукой, — много я не могу говорить, — но Бог меня довольно наказал. Я был честный человек, Фейга, и никогда ничьей копейки не замотал. Теперь я должен руку протягивать…
Он махнул опять рукой, что-то еще собрался сказать, но не найдя слов, пошарил вокруг себя руками и осторожно уселся на прежнее место. В это время соседки, стоявшие у дверей, заслышав, что дело касается подачки, стали бесшумно одна за одной исчезать из комнаты. Фейгу передернуло от злости.
— Видишь, как поступают умные люди, — обратилась она к Бейле, — только я дура сижу здесь и не ухожу. Положим, я бы давно уже ушла, но у меня есть дурак, который здесь останется. Ему разве больше нужно будет? Это человек, на которого можно положиться? Это теленок и ничего больше. Бог меня тоже славно с ним благословил.
— Что тебе сделал этот несчастный Иерохим, — вскипел Хаим. — Если бы я имел брата, я бы, кажется, ему душу отдал, а ты Иерохима готова утопить в ложке воды.
— Тише, тише, пожалуйста, тебя везде хорошо знают. Ты думаешь, что ты лучше Иерохима. Ошибаешься, мой дорогой, ты такой же калека, как и он. Где бы ты был теперь, если бы меня не было подле тебя? Твою лавку растаскали бы за ничто… А потом ты пошел бы под окна просить на хлеб. Нашли дойную корову. Не хочу я помогать никому, и конец. Что я за богачка такая, миллионы у меня лежат, детей у меня нет? Много найдется калек и нищих. Я не Иерохим, — я думаю о завтрашнем дне. Это ты, может быть, не думаешь. Умри ты — что я должна буду делать? Тоже пойти просить на хлеб? Никто не доживет до этого! Рубль я еще брошу, пожалуй, и то буду жалеть. Нужно было ему умнее быть. Довольно насосались они у меня. Зачем еще и кому, спрашивается, я буду давать? Разве Иерохим был такой почтительный и послушный брат? Пожалел он меня когда-нибудь, слыхала ли я от него ласковое слово? Он думал всегда только о себе. Портняжские песенки пел, когда у меня желчь разливалась. Башмачки своей царице одевал. Кто мне одевал башмачки? Ты, может быть? Много ты на меня смотрел? Он делал все, что хотел, а теперь опустил свою головку. О, глупый дурак, калека несчастный! Когда я раз осмелилась ему сказать, что невелико счастье жениться на служанке, то нужно было видеть, как он мне ответил. Он вертел своей курчавой головочкой, как настоящий человек, и я уже не знаю, где он этому тогда выучился, говорил: "мое сердце знает, чего хочет!" Ну, пусть он и теперь знает, чего хочет!
Фейга разошлась до такой степени, что не было возможности ее удержать. Она упивалась своим гневом и старалась перекричать всякого, кто собирался возражать ей.
— Фейга, дорогая Фейга, довольно, пожалей своих детей, — удалось-таки вставить Бейле.
— Лежи в земле с детьми, я не могу это перенести, понимаешь ты? Что вы все насели на меня? Давай, давай, другого слова не знают! Разве я делаю фальшивые деньги? Ведь у меня глаза вылезают, пока я не увижу свободной копейки, чтобы отложить ее про черный день. Разве это легко приходится? А мой дурень сидит, как корова, — возьми да и выдои его. Я сказала, что дам рубль, и больше у меня никто копейки не возьмет. Я должна себя иметь в виду. У меня маленькие дети; маленькие дети стоят больше взрослых. А тут давай, да давай. Будто деньги мои краденые! — Она гневно вскочила с места, взяла Ицку на руки и так уж и осталась с ним.
— Ну, что вы скажите, Зейлиг? — вскочила Ципка, а за ней, трясясь, поднялся и Иерохим.
— О, Бог, Бог, как Ты можешь молчать, глядя, что делается на земле! За что она купается в моей крови? Что я сделала ей? Или я ругала ее, или я украла у нее что-нибудь? Боже мой, Боже мой!
Ципка хотела еще что-то сказать, но плач, звеневший в ее голосе, вдруг вырвался из ее горла и огласил комнату. Лицо ее судорожно передернулось и приняло страшное выражение.
— Что я тебе скажу, дитя мое, — важным и задушевным голосом произнес Зейлиг. — Знаешь, в то время, когда мы еще имели свое собственное царство, существовал такой обычай наказывать преступника: его выводили далеко за город, раздевали наголо, обмазывали все тело свежим медом и оставляли в таком виде на произвол судьбы. Вскоре затем прилетали пчелы и, почуяв запах меда, набрасывались тысячами на голое тело, и через несколько времени преступник умирал в мучениях. Это было страшное наказание! Однажды случилось так, что преступника, обмазанного медом и начинавшего стонать от укусов первых пчел, увидел проходивший мимо его старый друг. Узнав казнимого, он горестно всплеснул руками и, движимый глубокой жалостью, хотел было наброситься на пчел, разогнать их и тем уменьшить страдания мученика. Но лишь только он приблизился, чтобы исполнить свое намерение, как несчастный стал умолять его именем Бога не делать этого. В великом смущении он остановил свою руку и спросил несчастного о причине этого запрета. "Я тебе скажу, — ответил тот. — Эти пчелы, что усеяли мое тело и вонзили в него жало, совершили свое дело и больше причинить страданий уже не могут. Если же ты, поддавшись доброте своей, отгонишь этих, то их тотчас же заменят новые, и тем удвоятся страдания мои. Поэтому, прошу тебя, оставь все, как есть, и предоставь меня моей судьбе". Вот что я хотел сказать тебе, Ципка. Понимаешь? Терпи свое наказание и не ищи друзей, чтобы избавили тебя от него. Так хочет Всевышний, а что Он хочет, то мудро и хорошо.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
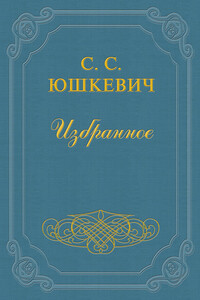
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».
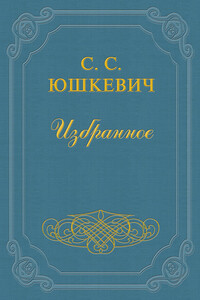
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
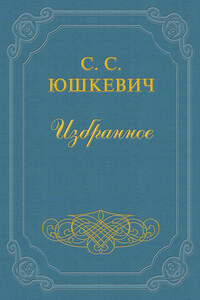
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
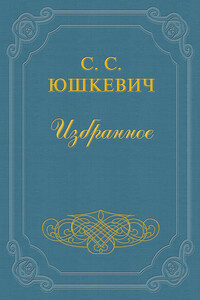
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
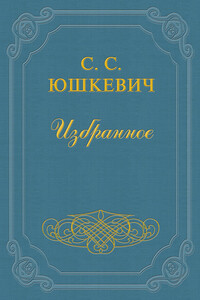
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».
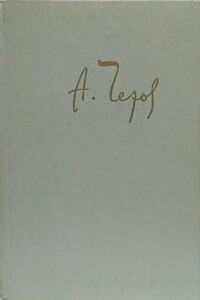
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».