Рассказы ужасов - [10]
Оделся я подчеркнуто официально — в темный костюм и черные туфли. Мне хотелось дать настоящий органный концерт.
— Можешь подниматься, — позвал я. — Я помыл ванну. И горячей воды полным-полно.
Через несколько минут она поднялась наверх. Я же тем временем уселся за фисгармонию, чувствуя некоторое неудобство от жесткой одежды, и попытался представить, как над клавиатурой вздымается лес трубок, уносящихся ввысь подобно деревьям, кроны которых даже разглядеть невозможно.
Жена прошла в ванну и разделась, затем обнаженная зачем-то вышла, почти уже готовая к банной процедуре. Мы никогда не стыдились друг друга и не увлекались всякой ерундой вроде халатов или пеньюаров. Она прошла мимо меня и, несмотря на всю свою стройность, не без труда протиснулась в ванную.
— Угу-уп. — Наконец она очутилась в ванной и стала наливать воду.
— Что тебе сыграть? — спросил я.
— Что? — переспросила она. Звук воды, лившейся из обоих кранов, заглушал все. Я подождал, когда она их выключит, и снова спросил:
— Что тебе сыграть?
Она уже уселась в ванну и плескалась.
— О, что хочешь.
Я вспомнил свое триумфальное утреннее путешествие, когда под моросящим летним небом играл Вагнера, сидя в кузове грузовика на мешках с углем. Я улыбнулся, потом громко расхохотался и, наконец, заиграл «Лоэнгрина»; акт третий, прелюдия, свадебная песня.
Из ванной доносилось веселое плескание. Что до меня, то давно я уже не чувствовал себя таким счастливым. Свадебная песня. Я перестал играть и зашел к жене, с трудом протиснувшись мимо моей чудесной новой фисгармонии. Потом поцеловал горячую и мокрую шею жены.
— Невеста в ванной, — сказал я. — Ну, и кто был тот мужчина?
— Кто? А, тот… Смит, кажется. — Как и большинство женщин, она любила читать про убийства.
Я присел на унитаз и улыбнулся. Она тоже улыбнулась, довольная тем, что я счастлив, что чувствую себя намного лучше и что, наконец, получил то, о чем так долго мечтал.
— Он играл на органе, пока она умирала, — сказал я. — А что он играл?
— «К тебе я ближе, мой Господь», — ответила жена, поглаживая себя мыльной губкой.
Я встал с унитаза.
— И как он это сделал?
— Стукнул по голове, чтобы потеряла сознание. А потом затолкал под воду, чтобы она захлебнулась.
— Зачем он это сделал?
— Причина обычная, — ответила жена. — Деньги. Подай мне полотенце — мыло в глаза попало.
Я снял полотенце с вешалки, но не передал его ей, а вместо этого обеими руками обхватил ее голову.
Она удивилась и сказала:
— Не надо так делать. Я же ничего не вижу. Дай мне полотенце.
Потом, все так же крепко сжимая голову жены, я с силой ударил ее о край ванны. Как выяснилось, недостаточно, а потому ударил еще раз, после чего позволил ей медленно скрыться под водой. Она была не особенно высокой женщиной, а потому уместилась даже в нашей маленькой ванне. Пока она пускала пузыри, я быстренько вернулся к фисгармонии, уселся на пуфик, подкачал в легкие инструмента побольше воздуха и начал играть «К тебе я ближе, мой Господь».
Но, черт побери, мотив не складывался. Стал напевать его себе под нос, наигрывать одним пальцем, но все равно понимал, что не выходит, что-то не то. А никакая другая мелодия сюда не подходила. Я должен был добиться своего, иначе бы все пошло коту под хвост. Я готов был кричать от отчаяния, что не знаю этой мелодии. Потом снова прошел в ванную и понял: слишком поздно. Все пошло насмарку. Я вообще не знал ни одного церковного гимна. Тот антиквар оказался прав, когда сказал, что я непохож на верующего. Что ж, что сделано, то сделано, а потому я принялся с большим чувством играть Чайковского, потом Бетховена, потом попурри из более современных композиторов. И играл до тех пор, пока вода в ванне не остыла совсем, а еда на плите не сгорела…
Дональд Хониг
Человек на карнизе
Собиравшаяся далеко внизу толпа постепенно превращалась в море запрокинутых голов, быстро увеличивалась в размерах и уже выплескивалась на проезжую часть. Впитывая в себя новых, похожих на вертких насекомых зевак, толпа перекрыла движение, и теперь пространство между домами заполнилось хаотичным ревом клаксонов.
С высоты двадцати шести этажей все выглядело игрушечным, таинственным, невероятным, а передававшие царившее внизу возбуждение шумы, здесь, на карнизе, были почти не различимы.
На изумленные лица, которые то и дело высовывались из ближайшего окна, стоявший на карнизе человек внимания почти не обращал. Первым был посыльный, смотревший на него с явным неодобрением и постоянно морщивший нос; потом показался лифтер, с угрюмым видом потребовавший объяснений по поводу того, что здесь вообще происходит.
Он посмотрел на лифтера и спокойно спросил:
— Ну, и что, по-твоему, здесь происходит?
— Вы что, прыгать собрались? — спросил тот, явно заинтригованный.
— Иди отсюда, — раздраженно проговорил стоящий на карнизе и глянул вниз.
— Вам это просто так с рук не сойдет, — прорычал лифтер, втягивая голову внутрь помещения.
Через секунду в окне появился помощник управляющего отелем, и занавеска заплескалась вокруг его холеной, гладко выбритой и определенно негодующей физиономии.
— Прошу прощения… — начал было он.
Стоявший отмахнулся и от него.

«— Ну, что же теперь, а?»Аннотировать «Заводной апельсин» — занятие безнадежное. Произведение, изданное первый раз в 1962 году (на английском языке, разумеется), подтверждает старую истину — «ничто не ново под луной». Посмотрите вокруг — книжке 42 года, а «воз и ныне там». В общем, кто знает — тот знает, и нечего тут рассказывать:)Для людей, читающих «Апельсин» в первый раз (завидую) поясню — странный язык:), используемый героями романа для общения — результат попытки Берждеса смоделировать молодежный сленг абстрактного будущего.

«1984» Джорджа Оруэлла — одна из величайших антиутопий в истории мировой литературы. Именно она вдохновила Энтони Бёрджесса на создание яркой, полемичной и смелой книги «1985». В ее первой — публицистической — части Бёрджесс анализирует роман Оруэлла, прибегая, для большей полноты и многогранности анализа, к самым разным литературным приемам — от «воображаемого интервью» до язвительной пародии. Во второй части, написанной в 1978 году, писатель предлагает собственное видение недалекого будущего. Он описывает государство, где пожарные ведут забастовки, пока город охвачен огнем, где уличные банды в совершенстве знают латынь, но грабят и убивают невинных, где люди становятся заложниками технологий, превращая свою жизнь в пытку…

«Заводной апельсин» — литературный парадокс XX столетия. Продолжая футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение малтшиков и дьевотшек «надсатых», Энтони Берджесс создает роман, признанный классикой современной литературы. Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников и сам становится жертвой насилия.
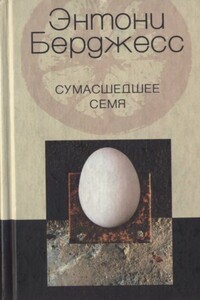
Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлера «Заводной апельсин». В романе-фантасмагории «Сумасшедшее семя» он ставит интеллектуальный эксперимент, исследует человеческую природу и возможности развития цивилизации в эпоху чудовищной перенаселенности мира, отказавшегося от войн и от Божественного завета плодиться и размножаться.

«Семя желания» (1962) – антиутопия, в которой Энтони Бёрджесс описывает недалекое будущее, где мир страдает от глобального перенаселения. Здесь поощряется одиночество и отказ от детей. Здесь каннибализм и войны без цели считаются нормой. Автор слишком реалистично описывает хаос, в основе которого – человеческие пороки. И это заставляет читателя задуматься: «Возможно ли сделать идеальным мир, где живут неидеальные люди?..».
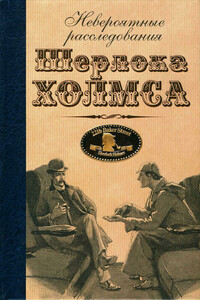
Шерлок Холмс, первый в истории — и самый знаменитый — частный детектив, предстал перед читателями более ста двадцати лет назад. Но далеко не все приключения великого сыщика успел описать его гениальный «отец» сэр Артур Конан Дойл.В этой антологии собраны лучшие произведения холмсианы, созданные за последние тридцать лет. И каждое из них — это встреча с невероятным, то есть с тем, во что Холмс всегда категорически отказывался верить. Призраки, проклятия, динозавры, пришельцы и даже злые боги — что ни расследование, то дерзкий вызов его знаменитому профессиональному рационализму.