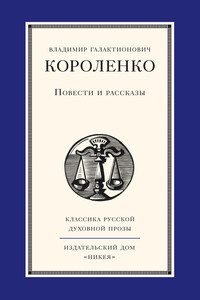Библия подчеркивает, что блудница дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон. И страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страною и дотла уничтожив красу Иерихона: «Проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон!»[17] Но разве не следы Навина – те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской, те огромные диски из камня, первобытные кровавые жертвенники Ваала-Солнца, что благоговейно полагал в круги сам народ израильский?
На тропические шлемы мы накидываем бедуинские платки. Лошади пошли шагом, неустанно мотая головами, отбиваясь от мух. Они машут кистями и разноцветными бусами, которыми украшают здесь уздечки. Шеи их стали мокры, темны и тонки. В легкой и все же душной тени платка дышишь как бы жаром раскаленного костра. Близок Иордан, – уже тянет запахом речной воды, запахом горячего ила… Теперь и от великой реки остался только узкий и мутный поток, от первобытно-густых зарослей на берегах ее – кайма ив, камышей и кустарников, опутанных лианами.
Масара, то место Иордана, где отдыхают пилигримы, предания называют местом крещения Иисуса. «В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского…»[18] В те дни долина переживала третий и последний расцвет. Тщетно было заклятие Навина, – еще раз вырос новый Иерихон. И вот дьявол искушает прелестью его самого крестившегося Сына Божия. «Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне»[19]. Серопесчаный берег обрывист и крут. Густая желтоватая вода, крутясь, бежит под ветвями ив, под корнями, покрытыми наносною травою, илом. Лошади тянутся к воде, вязнут по колена и долго, жадно пьют. Мертвая тишина кругом и сквозная горячая тень над головою. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному – связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, – жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: «И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей… И умер там, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня…»[20] Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода – и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола… И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров… Великими крестовыми битвами во имя и славу того, кто отверг здесь славу всего земного, обрывается летопись этой страны. За ними века молчания, никому не ведомых и несчетных подвигов отшельничества, погребения себя заживо в могильниках навеки забвенной Иудеи. В молчании, вдали от жизни всего мира, множатся, как соты ос, крипты[21] в каменистых обрывах Иудейских и Аравийских гор; в прибрежных скалах страшного Асфальтического моря, в огненных ущельях созидаются дикие обители. Но ураганами проносятся набеги от Дамаска, от Багдада, от Геджаса, и вот – пустеют и крипты, переполненные костями избиенных иноков, глохнут разоренные обители… И опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!
Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно-белом прибрежье это слово – полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменевшие ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге. Там – дни Авраама, Агари, Измаила. Там, в капище Эль-Лат, племя Тарик еще доныне поклоняется гилгалу Солнца – полубога, полудьявола.
1909 г.
В Вифлееме, в подземном приделе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее – крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись:
Hie de Virgine Maria lesus Christus natus est.[22]
В приделе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездою неугасимые лампады. Там, наверху, – жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь – холод, сумрак, благоговейное молчание:
Hie de Virgine Maria lesus Christus natus est
Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами, – хартии, письмена которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы, на месте их, можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, первое, что сохранилось на его священном палимпсесте. В царские одеяния облекли рожденного здесь, царям, путеводимым звездою, повелели принести ему, лежащему в яслях, венцы свои, злато, ливан, смирну, и легендами, прекраснее которых нет на земле, расцветили сладчайшую из земных поэм – поэму его рождения. Но, когда благоговейно склоняешься над нею в Вифлееме, проступает простое, первое.
Назарет – детство Его. Там протекло оно в тишине, в безвестности. Там огорчали и радовали его игры со сверстниками, там ласковая рука матери чинила его детскую рубашечку… Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письмена, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым уличкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила она, помню ее жилище, маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет… Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть, самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал Божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком.