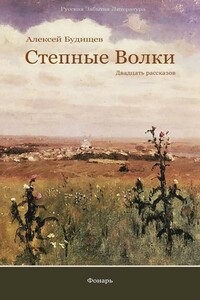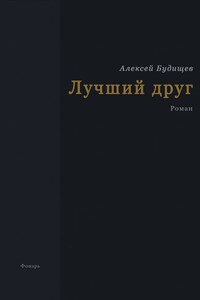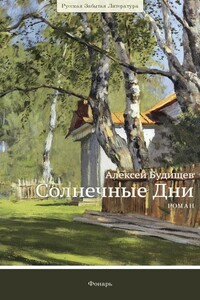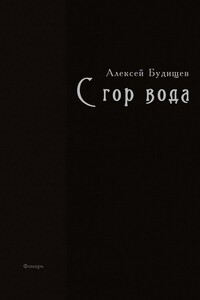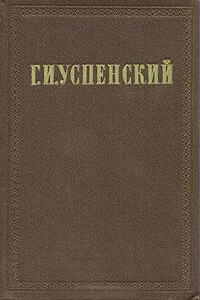Одним словом, скандал, скандал и скандал!
Кто говорит «жена побила мужа», а кто — «муж жену». Понятно, я чуть не в истерике, бросаюсь в глубину ложи, сопровождаемая Павлом Петровичем и мужем. Муж всё ещё стучит по моей спине, а Павел Петрович глядит в мой рот и, кажется, хочет залезть туда пальцем. С галереи кричат: «Хорошенько её!» А полиция бросается со всех ног. От стыда и страха меня торопливо одевают и увлекают коридорами. Муж и Павел Петрович ведут меня под руки, а мой рот всё ещё открыт. Капельдинеры видят это, нагло фыркают и говорят мне в лицо: «эк нализалась-то!» Понимаешь ли, голубушка, сколько я выстрадала? Это был какой-то ужас, ужас и ужас. Как я только не умерла там от стыда!
Наконец Павел Петрович понимает меня и говорит мужу: «Свихнула челюсть; это, говорит, не опасно, поезжайте домой, а я повезу её к доктору; я, говорит, здесь со всеми знаменитостями на ты. Через час привезу её вам здравой и невредимой!» Одним словом, поёт соловьём и так далее. Муж, понятно, соглашается, а Павел Петрович сажает меня на извозчика и увлекает с собою. На извозчике он говорит мне, что завезёт меня к себе в гостиницу, а оттуда уже пошлёт за доктором прислугу: так, говорит, для вас удобнее. Это кажется мне подозрительным, и я хочу протестовать, но не могу произнести ни слова. Наконец мы очутились у Павла Петровича. Он скидает с меня верхнее платье, усаживает меня в кресле и звонит в колокольчик. Явившейся на зов прислуге приказывает ехать за доктором и даёт деньги. Прислуга удаляется, и мы остаёмся один на один. И тогда Павел Петрович становится передо мной на колени, берет мои руки и объясняется мне в любви. Представь себе моё положение? Что я ему могла сказать? Если бы я могла говорить, я бы, конечно, крикнула: «Мерзкий, не смейте говорить пошлостей!» или: «Несчастный, что вы хотите делать!» Но я молчала, потому что не могла сдвинуть с места свои губы; язык мой не повиновался мне более, и я была беззащитна. Я была без оружия! Между тем Павел Петрович стал целовать мои руки. Но что всего нахальнее, так это то, что он, этот самый добрый Павел Петрович, — когда доктор, исправив мою челюсть, уехал, оставив нас одних, — он вообразил себе, что я молчала из согласия?! Понимаешь ли, он представил себе, что молчание есть знак согласия, и я никак не могла разубедить его в этом. Понимаешь ли, никакими способами! Он был так убеждён, так убеждён, что я ничего не могла с ним поделать! То есть, так-таки решительно ничего! Только ты, пожалуйста, никому не говори об этом!
Авдотья Семёновна всплескивает ручками и удивлённо поднимает брови:
— Да, конечно же, да конечно же! Что же ты могла сделать в таком положении?!