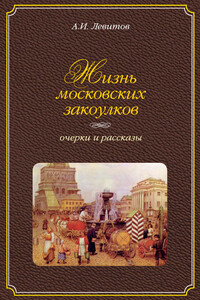Опять вечер, только уж поздний вечер. И стадо давно пригнали, и в ночное уехали. Тишь обняла сельскую улицу, млеющую от ласк прохладной росы ночной, задумчивую и печальную улицу, которую, как бы пугливую молодую невесту, жених-месяц обливает своими золотыми и серебряными блестками.
– Вот чудесно мы Козлиху просватали, – говорил соседу урезонивавший ее толстый мужик, возвращаясь с ним с великого пира.
– Просватать-то мы, сусед, точно что ее просватали, только же и миру суд у господа бога, сам знаешь, будет какой! Не будет там отлички-то богатым от бедных, пойми ты это. Ведь мы ее, Козлиху-то, за ее же добро с корнем вон вырвали.
– А рази она первая? – спрашивал толстяк. – Рази теперича мир без угощенья может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что богатый мужик, а на задор лезла. Рази он ее одну за свою обиду искоренил? Ведь видела она, что мир с ним спорить не может.
– Знаем мы эти пословицы-то: с сильным не борись, с богатым не тягайся; все же таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили…
– О господи! господи! – боязливо прошептал толстый мужик, перекрестившись. – Все-то дела вино сочиняет.
– Васька! – громко раздался из глубины правления голос пьяного писаря.
– Чего изволите, Микита Иваныч? – отзывается сторож.
– Поди к Кулаковым квасу мне у них со льдом возьми. Скажи, мол, писарь велел.
– Ходил я к ним от вас онамедни: через великую силу выпросить мог. Говорят: часто вы к нам посылаете.
– А ты им скажи: «В бараний рог, мол, вас писарь согнет за такую обиду. Рази, мол, не видели, как ныне дядя Федот с Козлихой расправился». Искореню, ежели не дадут. Так и скажи.
Из угловой закутки Федотова двора по всей улице разносится громкое вытье закабаленной Козлихи.
– Поори, поори у меня еще, прынцесса. Я те тогда не так еще уши-то оболтаю! – орет на том же дворе басистая Федотова старуха. – Теперь наших рук не минешь. Сто на ассигнации мужу-то стоила ты.
– Известно, не мину твоих рук, – плачет Козлиха. – От них теперича и в гроб должна лечь.
Только и было во всем селе человеческих голосов в эту дивную пору ночи. За ее восторгающие красоты хвалили господа одни голоса животных и птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира.
Грозный, как эта грозно царящая ночь, грянет некогда суд на людей и обстоятельства, которые заслепили столько глаз, не видящих чужого несчастья, которые притупили столько душ, не благоговеющих теперь перед светлым лицом природы, перед этим вечным храмом истинного бога живого.
1862