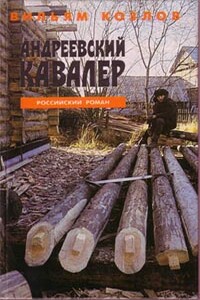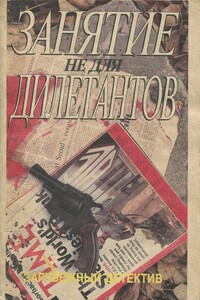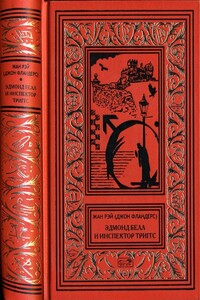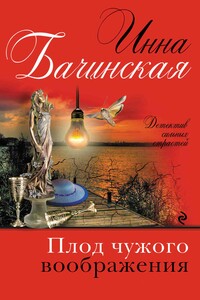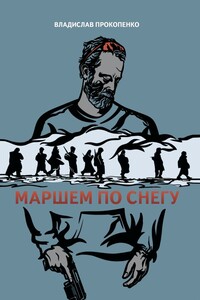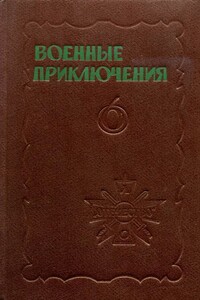Первый — заключение почерковедческой экспертизы. Он торопливо пробежал его глазами:
«...завитковое начало овала буквы «а»... печатный вариант прописной буквы «Т»... восходящее направление заключительной части надстрочного элемента буквы «б»... отчетливо выраженная петлевая связь буквы «в» с последующими буквами...»
И сразу скользнул взглядом к окончательному выводу:
«...все это дает основания утверждать, что поправки в представленной на экспертизу рукописи сделаны той же рукой, что и...»
Ну что ж, так он и думал. Интересно, что теперь скажет Антоневич? Что возразит?
Второй лист с отпечатанным на машинке убористым текстом Серебряков читал медленно, с напряженным вниманием. Это был ответ на его запрос о гражданине ФРГ Рихарде Грюнберге.
«...Гражданин ФРГ Рихард Грюнберг неоднократно посещал Советский Союз в качестве представителя ряда торговых и промышленных фирм, а также по приглашению родственников его жены. Женат на бывшей советской подданной Галине Барановой.
Задерживался милицией за попытку распространения литературы антисоветского содержания. По имеющимся сведениям, в первые послевоенные годы сотрудничал с американской разведкой, в настоящее время тесно связан с радиостанцией «Свобода», выступал в качестве специалиста по Советскому Союзу под псевдонимами: Цветов, Розенфельд, Дорфман, Петровский. Имеет активные контакты с рядом руководящих деятелей НТС...»
Что ж, теперь, пожалуй, становится ясно, кому на самом деле предназначал Антоневич свою рукопись. Свою? Или, может быть, все-таки Бернштейна?..
— Итак, Антоневич, вы продолжаете настаивать на том, что машинописный документ, переданный вами для отправки за рубеж Гизелле Штраус, принадлежит не вам, а Бернштейну Игорю Львовичу, в настоящее время проживающему в Израиле?
— Да, совершенно верно.
— Но в таком случае вы, вероятно, можете назвать кого-либо, кто мог бы подтвердить авторство Бернштейна?
— Простите? Я не понял.
— Ну как же... Наверняка был кто-то, кто помогал Бернштейну в его работе. Возможно, кому-то он отдавал перепечатывать свои материалы...
— Нет, этого не было. Бернштейн, естественно, не хотел, чтобы кто-то еще оказался в курсе его работы над книгой. И печатал он сам.
— Вы уверены в этом?
— Да, абсолютно.
— Но, может быть, все-таки какую-то часть материалов кто-либо помогал ему перепечатывать?
— Нет. Он все делал сам. Я говорю: он предпочитал держать свою работу в секрете.
— Тем не менее вам он доверился. Чем вы объясняете этот факт?
— Не знаю. Затрудняюсь ответить.
Антоневич выглядел сегодня равнодушно-усталым. Вообще в этом человеке таилась какая-то странная изменчивость, неопределенность: каждый раз он представал перед Серебряковым словно бы в новом качестве, как будто намеренно стремясь разрушить те представления, которые уже успели сложиться о нем. В прошлый раз он был спокоен, собран, а сейчас выглядел вяловатым, даже расслабленным, на вопросы отвечал замедленно, вроде бы лениво, точно ему уже изрядно поднадоела вся эта процедура и он уже не ждал от нее ничего нового, никаких неожиданностей.
— Тогда скажите, Антоневич: читая машинописный документ, переданный вам, как вы утверждаете, Бернштейном, вносили ли вы в текст какие-либо поправки?
— Не помню. Возможно, я и исправлял какие-нибудь опечатки. Чисто машинально.
— Возможно? Или исправляли?
Антоневич помолчал, словно бы прикидывая возможные последствия своего ответа.
— Да, теперь я припоминаю, — сказал он. — По-моему, я действительно поправлял некоторые ошибки.
— Некоторые? Однако экспертиза установила, что все поправки, внесенные в машинописный текст, сделаны вашей рукой. Не правда ли странно — автором текста, по вашим словам, является Бернштейн, а поправки в текст вносите вы? Что вы на это скажете, Антоневич?
— Это вполне объяснимо, — сразу отозвался Антоневич. — Дело в том, что Бернштейн очень торопился, рукопись своей книги он передал мне, как я уже показывал, утром, в день своего отъезда. Естественно, что, готовясь к отъезду, он не успел вычитать ее сам.
— На предыдущем допросе вы утверждали, что, получив машинописные материалы от Бернштейна, вы в тот же день вечером отнесли их своему приятелю Виктору Костину. Так?
— Так.
— И значит, вы успели и прочесть их и выправить за один день. Не можете ли вы припомнить, какой это был день?
— То есть что значит — какой?
Интересно — он на самом деле не понял вопроса или просто пытался выиграть время?
— Я спрашиваю: не можете ли вы припомнить, какой это был день недели?
— А-а... Затрудняюсь ответить. Не помню.
— И все-таки постарайтесь вспомнить. Ходили вы в этот день на работу, в институт или нет? И если ходили, то, возможно, брали с собой материалы, переданные вам Бернштейном? Или читали их дома?
— Да, конечно, читал дома. Вероятно, это была суббота.
— Вероятно или точно?
— Точно. Это была суббота.
— Суббота. Хорошо, так и отметим, — удовлетворенно сказал Серебряков. — Итак, вы прочли и выправили машинописный документ, переданный вам Бернштейном. Как все же вы отнеслись к его содержанию?
— Я не особенно вникал в содержание. Можно сказать, я читал машинально, потому что очень торопился. Улавливал только общий характер. Об этом я уже говорил на прошлом допросе. Кроме того, в рукописи оказалось слишком много опечаток, и это мешало воспринимать текст...