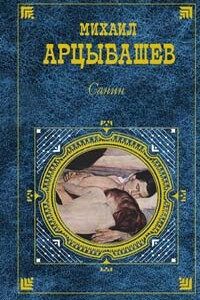Рабочий Шевырев - [4]
Шевырев быстро зашевелил пальцами, подумал и вдруг встал.
— До свиданья, — сказал он. — Я немного устал с дороги… и я редко говорю так много…
Аладьев задумчиво пожал ему руку. А когда Шевырев уже отворял дверь, быстро спросил:
— А скажите… вы действительно рабочий?
Шевырев улыбнулся.
— Что ж тут удивительного? Да.
И вышел, плотно закрыв за собой дверь.
Аладьев долго ходил взад и вперед по комнате, с ожесточением куря папиросы и мысленно продолжая спор. Теперь, когда противник его молчал и только слушал, возражения казались неопровержимыми, и Аладьев мало-помалу замечтался. Грядущая жизнь в виде смутного, но светлого видения стала вырисовываться перед его глазами. И как-то странно русский мужик, огромный непонятный народ, которому столько великих людей, полных простой и крепкой веры в правду, дали имя народа-Богоносца, опять овладел его мыслью. Ему представилось необозримое марево полей, лесов и деревень, серых, убогих и печальных, на просторе которых в тишине и тайне вечного труда великий народ-страстотерпец терпеливо растит свою кроткую правду, — правду будущей справедливой жизни человеческой. Это было смутно и громадно и подымало, и терзало душу Аладьева. Ему хотелось написать что-то колоссальное: одним взмахом, грудами образов, полных силы и правды и спаянных одною великой мыслью, выразить то, что так мучило и радовало его. Голова загорелась, на глазах выступали слезы, и казалось, что это так возможно, так близко и достижимо. Но трепетное сознание своего бессилия обескрыливало душу.
«Где мне!»
Аладьев тяжело вздохнул и подумал с облегчающим сердце смирением:
«Ну, что ж… Не я, так другой! А я буду делать свое дело».
Он еще постоял посреди комнаты, бессознательно глядя затуманившимися глазами на портрет Толстого, зорко и пронзительно смотревший со стены.
Потом, допив восьмой стакан уже совсем жидкого чая и вспотев, Аладьев забрал свои папиросы, лампу, потянулся всей спиной и сел за письменный стол, покрытый газетной бумагой.
Он сидел долго, почти до утра, и все писал. Лампа давала мало света, и вся комната была в тени. Только ярко освещались большая длинноносая голова и крепкие мужицкие руки, усердно и старательно водившие пером.
С усердием и трудом писал он о том, как умирают казнимые за правду крестьяне: просто, без слов, не делая из этого подвига, не ожидая восторгов и гимнов, сосредоточенно и спокойно, как будто зная что-то, чего другие не знают.
Дым густыми клубами медленно всползал мимо лампы и пропадал в сумраке. Было слышно только, как перо скрипело по бумаге да изредка трещал стул, когда Аладьев нервно двигался в каких-то ему одному известных потугах напряженной мысли.
В квартире все молчало, и темная ночь смотрела в окно. Трудно было представить себе, что ее глухой мрак только кажется таким, а где-то там, за крышами домов, на широких улицах горят и блестят тысячи живых огней, движется торопливая болтающая толпа, открыты рестораны, сверкают на вечерах голые плечи, в театрах гремят красивые голоса; говорят, влюбляются, борются за жизнь, и живут, и умирают люди.
За стеной, на твердой кровати, неподвижно лежал Шевырев, и холодные, широко открытые глаза его с непоколебимым выражением смотрели во тьму.
II
Единственное окно комнаты Шевырева выходило в стену, над которой тянулась узкая полоска серого неба, прорезанного закопченными трубами. Комната эта носила несколько странный характер: от совершенно голых стен в ней казалось чересчур светло и холодно, на полу не виднелось ни малейшей соринки, на столе не было ни одной вещи, и если бы не сам Шевырев, совершенно нелепо сидевший не у окна, не около стола, а у запертой двери в соседнюю комнату, нельзя было бы подумать, что здесь кто-нибудь живет.
Прямо и неподвижно, только чуть-чуть перебирая пальцами на коленях, Шевырев сидел спиной к двери на единственном стуле, который сам перетащил туда. Глаза его смотрели холодно и безучастно, точно он машинально изучал свою кровать, похожую на больничную койку, но по едва заметному движению в сторону каждого звука видно было, что он чутко прислушивается ко всему происходящему в квартире.
Сначала он слушал, как пил чай и потом уходил Аладьев, а затем продолжал сторожить все дальние звуки, слабо и робко говорившие о той серенькой жизни, которая копошится вокруг.
За дверью, у которой он сидел, жила — Шевырев уже знал — молоденькая швейка, наивная и немножко глухая. Он догадался об этом по свежему голоску, по тихому журчанию машинки, по тому материнскому тону, каким за что-то выговаривала ей старуха хозяйка, и по тому, как застенчиво и трогательно-беспомощно голосок то и дело переспрашивал: что?..
Дальше где-то жило большое семейство. Оттуда доносился писк детских голосов, похожий на писк целого гнезда голодных мышат; слышался высокий озлобленный крик, очевидно, больной и замученной женщины, а рано утром звучал еще и робкий мужской тенорок.
В темном коридоре, за занавеской, какие-то старички все время торопливо перешептывались, ворошили груды тряпья, копошась, точно черви в падали. Был нуден их боязливый, прерывистый шепоток, который по временам обрывался, точно старички вдруг услышали что-то тревожное и притаились.
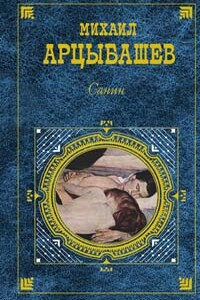
Михаил Арцыбашев (1878–1927) — один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание. Роман «Санин» — главная книга писателя — долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», — писал Л. Н. Толстой.Помимо романа «Санин», в книгу вошли повести и рассказы: «Роман маленькой женщины», «Кровавое пятно», «Старая история» и другие.

Психологическая проза скандально известного русского писателя Михаила Арцыбашева, эмигрировавшего после 1917 года.
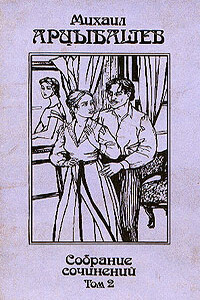
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

Истинным ценителям черной прозы, готики, хоррора. Потусторонний мир глазами русских писателей-мистиков. Здесь нет кровавой расчлененки, демонов, разрывающих на куски блондинок и прочих «страшилок», которые мы привыкли находить под обложками книг обозначенных как «ужасы». Это скорее "темная проза", мрачная философия о человеческом одиночестве… Но прочесть эту книгу следует обязательно! Хотя бы за красоту слога и стиля.Только самое страшное, леденящее кровь и душу, жуткое, но при этом безумно красивое. Враждебный холод зеркал, выходы в астрал, осознанные сновидения, сатанинские ритуалы и пограничные состояния.

Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.В восьмой том собрания сочинений вошли письма 1898-1921 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Максим Горький описывает, с обычным своим искусством и жизненностью, уличную сутолоку больших городов – Берлина, Парижа, Нью-Йорка и др.

Это средняя часть трилогии «Творимая легенда», русского писателя Фёдора Сологуба.«Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни.Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова…
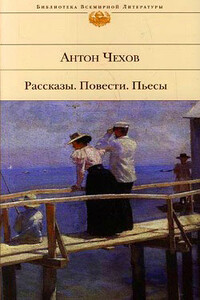
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».