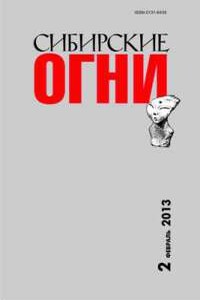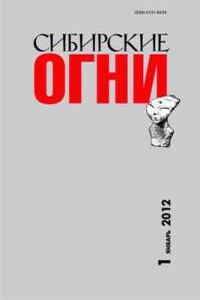Я обнаружил, что спал в рубашке и галстуке, рванул одеяло и сел в постели. На меня, не мигая, пялилась собака черными угольками — глаза в глаза, уши ниже морды, язык там же, невнятной масти и поведения. Смотрела добродушно, с интересом, то и дело принюхиваясь, но лишь пошевельнулся — угрожающе зарычала, наклонив морду и уводя взгляд. Я огляделся — вишневого платья нигде не было. Телевизор отечественной марки, шкаф, книги, мой костюм на стуле, очки в тонкой оправе на столике. Ничего лишнего. Собака зевнула, пустив слюну, я потянулся к стулу — и замер от рычанья. Из оцепенения меня и собаку вывели скрип и стук. Псина заметалась, схватила один тапок, под столиком хапнула другой, потеряв первый, и, царапая пол, умчалась. Я лихорадочно дергал молнию на брюках, когда услышал звонкое: «Дайна, место!» (Вот дались им прибалтийские собачьи клички, в самом деле!..) В комнату с мокрыми волосами и полотенцем на шейке вошла хозяйка… Н-да, вишневое платье было бы ей великовато, да и будь впору, не спасло бы. Впечатление? Как говорят летчики, видимость — ноль. Девочка со старым лицом, старым и бесцветным. Я не сразу сообразил, что это та, другая, которая тоже была в гостях у Гарика. Тоже танцевала, тоже смеялась, тоже пила на брудершафт, тоже пела «Не расстанусь с комсомолом…» — серой мышкой, для маскировки раскрасив мордочку и коготки и обеспечив кворум на собрании вышедших в тираж комсомольцев. Я ее не помнил. Как можно с одного раза запомнить мелкий рисунок обоев? Гарик, ученая очковая змея, все рассчитал. А меня споил. Старая девочка послужила декорацией, впрочем, как и я, старый мальчик. Декорацией, на фоне которой разворачивались основные события. Ну и черт с ними, с событиями, я сладкого объелся по молодости, до сих пор потряхивает в районе третьего позвонка.
Она что-то спросила, придерживая на груди ситцевый халатик, сползающий с острых ключиц. Кажется, насчет завтрака. Я попросил сигареты. Покраснев — девочка и есть! — сказала, что вообще-то не курит. А как же вчера, у Игоря Матвеевича? Понятно, дымовая завеса. Чтобы не увидели острых ключиц. Она надела очки, их тоже вчера не было, — видимость и вовсе стала минусовой. Послушная старая девочка изъявила желание сходить за сигаретами, тут недалеко ларек на улице. Из коридора, помахивая хвостом, — услышала слово «улица», — вышла собака и уставилась на меня своими угольками. Они были готовы сходить за сигаретами вдвоем. Как, внутренне поразился я, с мокрыми волосами, когда в полях еще белеет снег?! Я представил, как она тащила меня, пьяного в зюзю, словно муравей бревно, задыхаясь, не видя ни шиша без очков, потом волокла на свой этаж, — и мне стало ее жаль. И ведь ничего не было, и быть, наверное, не могло ни в каком виде. Я сказал, что перебьюсь и без курева и что мне пора на работу.
Хотя, конечно, было. И то, что было, называлось безжалостно — жалостью. И Дайна больше не рычала. Старая девочка позвонила на работу, было плохо слышно. Как узнала номер — загадка, я сказал, что очень занят, через неделю буду посвободней. Ровно через неделю в тот же час опять было плохо слышно. Я представил, как она стоит в холодной будке автомата, почему-то с мокрыми волосами, и сказал, что приду, только квартиру не помню. Она звонко крикнула, что будет ждать возле остановки и повесила трубку. Каждый раз удивляло, что она упрямо хотела встречать на остановке, а дома пятнистая Дайна ждала ее, держа в зубах тапочки. Однажды они встретили меня вдвоем, и, когда подходили к дому, к Дайне подбежала девочка, завизжала, отбросив мячик: «Тайна! Тайна!»
Длилось это не больше месяца, я помню хорошо, до начала футбольных телетрансляций. Раз в неделю, в одно и то же время, сразу после работы, но не позже полдевятого, плюс двадцать минут на маршрутном такси, так что я, не вызывая расспросов, совал ноги в теплые домашние тапочки уже полдесятого. Это было удобно, и протянулось бы еще, если бы глупышка не призналась, что она живой человек. Ни кожи, ни рожи, так мальчишки с детства дразнили, а поезд «ту-ту». Вот, собаку завела, хоть кто-то ждет, а то хоть вой на пару. И учиться пошла на заочное, а на фига ей, у ней и так одно высшее. И каждую весну, дуреха, на что-то надеется… Она высморкалась в пододеяльник, села в кровати, отвернувшись худенькой спиной, лопатки выпирали из нее, как крылышки. А с собакой творилось неладное, она металась по комнате, мела хвостом пыль, сучила передними лапами и будто рыдала. Хозяйка закричала на собаку, бросилась тапком, — поджав хвост, та убежала, и изредка, задавленно рыдала уже из коридора.
Я пошел на кухню, налил себе водки, в другой стакан — воды. За окном стемнело, россыпью тлеющих угольков, готовясь ко сну, лежал в долине город. Звезд не было, было около восьми. Когда я вернулся, она уже успокоилась, включила светильник, натянула халатик. Что это, близоруко щурясь, спросила она, принимая стакан, и попросила водки, запив ее водой. Отдышавшись, сказала, что про слезы можно забыть, просто она хотела сходить в кино, она никогда не ходила с мужчиной в кино. Я оделся и увидел в комнате собаку. Дайна сидела с тапочком в зубах, — кажется, с тем самым, которым в нее кинули.