Пятеро - [29]
Маруся подняла ко мне глаза и спросила шепотом, очень естественно, как будто это совсем разумный вопрос:
— Можно поплакать?
— Можно.
Она покрыла глаза моими руками; щеки у нее были прохладные, ресницы ласково щекотали мои ладони. Плакала ли она, не знаю; плечи иногда чуть-чуть вздрагивали, но это не доказательство. Молчали мы долго; вдруг она отвела мои руки, опять подняла ко мне глаза — действительно влажные — и опять шепнула:
— Милый… побраните меня изо всей силы.
Я спросил, тоже вполголоса:
— За что?
— Нагнитесь ближе, а то букашки подслушают. — За все, что вы обо мне думаете; или думали бы, если бы не были такой глупый и добрый и… посторонний.
— Я не посторонний!
— Я лучше знаю; но теперь не о вас, теперь обо мне. Побраните!
— Зачем это вам?
— Так. Нужно. Иначе начну колотиться головой о стволы.
Что с ней творится, я не понимал, но видно было, что это не игра, не приемы: о чем-то она взаправду изголодалась — ей надо помочь, надо вторить. Но и само собой уже вторилось, помимо умысла — меня уже захватило все колдовство часа и округа и ее близости. Я спросил послушно:
— Подскажите, за что бранить?
Она открыла глаза:
— За эту выходку на лодке; за то, что всегда всех дразню и щекочу и нарочно взбалтываю муть. За то, что я вся такая… захватанная руками. Правда, захватанная?
Я молчал.
— Повторите, — просила она, сжимая мне руки изо всей силы. — «Муть». «Захватанная».
Я молчал.
— И еще: «…недорогая». Повторите!
— Маруся, — ответил я резко, — вы откройте глаза и посмотрите, кто с вами. Это я, а не черниговский дворянин, столбовой или стоеросовый или как это у них называется, по имени Алеша.
— Совсем он не стоеросовый, — шептала она, — не смейте. Он прав.
Я молчал; я действительно злился.
— Разве не прав? Разве это все — про меня — не подлинная правда?
— Даже если «правда», — сказал я, — это еще не значит, что «прав».
Так часто бывает: прикоснешься к человеку наудачу — а попадешь именно в нервный узел боли. Вероятно, эти слова мои отозвались на то самое, что ее мучило. До сих пор, если напрягу память, почти слышу ту ее долгую страстную исповедь и защиту; наизусть ее помню. Ее лицо с закрытыми глазами, когда она говорила, было страшно серьезно: не я и даже не «Алеша» стоял тогда пред нею и обвинял, а что-то иное, чего до тех пор я за нею не знал.
— …Бог мне свидетель: я не дразню нарочно и не щекочу. Я живу и смеюсь и… дружусь так, как само выходит. Если выходит гадко, значит я сама в корне гадкая, Бог меня отроду проклял; но я ничего не делаю для цели.
— …И никого я не ушибла. Вот они все мысленно предо мною сейчас наперечет, весь… список; кому из них хуже стало от того, что я была с ним — такая? Покутили месяц, месяц потом потосковали, а теперь благодарны и за хороший час, и за конец. Я не глубокая, я не отрава на всю жизнь: я — рюмочка вина пополам с водою; отпил глоток, встряхнулся и забыл. Неужели нет и для таких права и места на свете?
— «Захватанная руками»: хорошо, пускай. А я иногда так думаю: будь я большая певица, и пришел бы ко мне друг, просто обыкновенный приятель, и попросил бы: «спойте мне, Маруся», — что тогда: можно спеть или не надо? Можно подарить чужому что-то от моего существа? Все скажут: можно. А разве талант не ласка? Еще, может быть, гораздо святее и секретнее, чем ласка. Для меня ласка — простая деталь дружбы; пусть я гадкая, но это правда.
Я знал, что она умница, но до тех пор она никогда не говорила при мне с такой сосредоточенной убежденностью; я и не подозревал, что есть в ней такая своя работа мысли. Я спросил:
— Это софизмы, или вы вправду так думаете?
— Я клянусь.
Вдруг она открыла глаза, отпустила мои руки, прижала к груди свои кулачки и заговорила вслух:
— Я вам в другом исповедаюсь; этого еще не сказала никому. Ласки мне не жалко, это мелочь — как доброе слово, как улыбка, или сахарная конфетка. А вот, если бы действительно был у меня талант, что-то единственное, неповторяемое, избранное — вот когда была бы я скупая! Может быть, и в самом деле не только для гостя бы не пела — и на концерте совестно было бы выступить, выдать людям свою настоящую, настоящую тайну. Я бы, может быть, спряталась тогда в темном углу от всего света; ждала бы праздника — ждала бы того мне Богом назначенного рабовладельца, про каких пишется в романах; он один бы и слышал, как я пою, и ноги бы я ему целовала за слово похвалы: о, Маруся тоже знает цену святым вещам, только уж это пусть будут большие святыни!
Она несколько раз разжала и снова стиснула пальцы, словно что-то хватая в полную нераздельную власть, и глаза ее смотрели на меня торжествующе. Я осторожно поднял одну из ее рук, поднес к губам и поцеловал.
— Оправдана? — спросила Маруся, опять укладываясь; и опять уже все в ней ликовало внутри, и опять месяц со всеми звездами на небе и вся зелень вокруг и я любовалась одной Марусей.
— Верните руки, — шептала она, — а то мне одиноко… — И снова она тихо смеялась, прижимая тыл моих ладоней к своим щекам, теперь горячим; только глаза и виднелись, невыразимо как-то счастливые.
— Маруся?
— Что?
— Можно дальше спрашивать?
— Все можно.
— Этот Алеша — это, значит, и пришел «рабовладелец»?

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
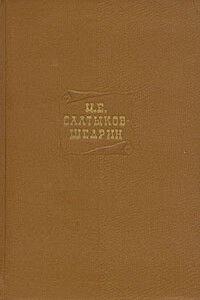
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
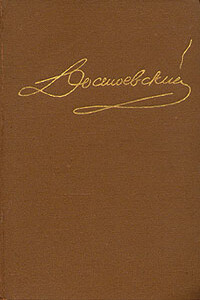
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.