Пятеро - [25]
Маруся была неровная, то хохотала и шумела, то задумывалась. Я знал, почему. Когда мы опускались к берегу и отстали вдвоем, она вдруг обернулась и шепнула, вся клокоча внутри от возбуждения и радости:
— Через месяц Алеша приезжает.
Я не сразу понял, о ком это; потом сообразил — о Руницком. Когда мы у него были год тому назад, она его называла Алексей Дмитриевич. Сколько раз он с тех пор уезжал «на Сахалин», сколько раз возвращался, встречались ли они, я не знал; видно, встречались.
Теперь она в лодке минутами сходила с ума: скакала по всем перекладинам, садясь на плечи гребцам и раскачивая плоскодонку так, что Нюра с Нютой взвизгивали в унисон; завидя вдали малорослый пароход «Тургенев», возвращавшийся перед вечером из Очакова, приказала «обрезать ему нос» и обязательно перед самым носом; вырвала у Самойло руль и провела предприятие так удачно, что с корабельной рубки понеслась хоровая ругань, которую, слава Богу, отчасти заглушали тревожные гудки; но Самойло сидел рядом с нею на корме и следил, прищуря глаза, и ясно было, что при надобности он ссадит Марусю на дно и выручит нас. После этого подвига она ушла на нос, свернулась там колечком и долго молчала, глядя на закат. Потом взяла урок курения у одного из студентов — женщины тогда еще у нас не курили; и много веселья было по поводу того, что у студента на крышке портсигара внутри, так что не мог не прочесть каждый, кому бы он предложил папиросу, оказалась известная надпись серебряной славянской вязью: «кури, сукин сын, свои».
Тем временем коллега его поддразнивал Нюру и Нюту, уверяя, что обе они тайно влюблены в Сережу: «поровну, конечно». Их записки к нему начинаются так: «Родной наш…», и одну строку пишет мать, а следующую дочь.
— Это не нужно, — отшучивались Нюра и Нюта, — у нас один почерк.
Но я с удивлением заметил, что обе слегка — «поровну» — порозовели. Впрочем, это мог быть и просто отблеск заката: небывалой красоты развернулся в тот вечер закат. Мы бросили грести; лодка даже не покачивалась. Кто-то вздохнул:
— Хороши у Господа декораторы.
После этого мы играли в Ueberbrettl[91] — Нюра с Нютой, женщины образованные, видели это недавно в Вене.
Студент с портсигаром очень мило пел гаванные песни. Большинство были обычные, но одной я ни до того, ни после не слышал: целый роман. Сначала он и она — еще малые дети: «играются» где-то на Косарке[92] и дразнят улиток: «лаврик[93], лаврик, выставь рожки, напеку тебе картошки». Потом она, подрастая и хорошея, дразнит уже его; дальше — он начинает ревновать: «Кто купил тебе сережки?». В конце концов она его бросила; он грузчик в порту, а она — связалась с богатым греком и, встретив прежнего милого, уже отвернулась.
Нюра и Нюта рассказали историю из французского сборника легенд. Умную историю: только много лет после того, и на иных опытах, я понял какую умную. Жил-был рыцарь, у которого отроду не было сердца, но знакомый часовщик сделал для него хитрую пружину, вставил в грудь и завел раз навсегда. Рыцарь с пружиной вместо сердца ездил по дорогам и защищал вдов и сирот; в крестовом походе спас самого Бодуэна[94], первый взобрался на стену святого города; увез из терема, охраняемого драконом, прекрасную Веронику и обвенчался с нею в соборе; отличная была пружина. А после всего, покрытый славой и ранами, разыскал он того часовщика и взмолился Христа ради: да ведь я не люблю ни вдов и сирот, ни святого гроба, ни Вероники, все это твоя пружина; осточертело: вынь пружину! — Нюра и Нюта умудрились это рассказать «вдвоем», т. е. одна говорила, вторая кивала головою, а впечатление было, что вдвоем.
Второй белоподкладочник, очевидно человек настойчивый, придумал кораблекрушение. Только трое спаслось на необитаемом острове: мичман и две пассажирки («второго класса», прибавил он ехидно), мать и дочь. На острове обе дамы влюбились в мичмана («поровну»), но, будучи «адски благовоспитаны», и помыслить не могли ни о каких вольностях. И вот случилось два чуда: во-первых, оказалось, что на том необитаемом острове законом разрешается многоженство; а во-вторых — когда мамаша однажды хорошенько помолилась Богу, Бог сжалился: ее дочь перестала быть ее дочерью и стала ее племянницей и т. д.
Он очень забавно рассказал эту чепуху. Снова ли зарумянились Нюра и Нюта, уже не было видно: быстро темнела ночь, пока еще безлунная. Только звезды светили так, что можно было разобрать, который час, и гладкая вода, полная фосфора, при каждом легком всплеске рассыпалась гроздьями хрустального бисера.
Самую лучшую историю рассказал, по-моему, я, и не ерунду, как он, а правду: про республику Луканию. Когда мы были в третьем классе, потрясающее впечатление произвели на меня и товарищей две строчки из оды «Уме недозрелый»[95]:
Мы учредили тайное Содружество румяного Луки — программу незачем излагать, дело ясное, — оккупировали одну долинку, вон там, на Ланжероне, и в честь веселого патрона окрестили ее республика Лукания. Ввиду полудамского состава аудитории, не всю летопись этого государства можно было им рассказать, но что можно было, прошло с успехом: как мы строили крепость из наворованных кирпичей; как функционировал у нас почтовый ящик — двухфунтовая жестянка из-под чаю Высоцкого, зарытая глубоко в родную землю (когда мне нужно было снестись по срочному делу с одним из сограждан, я на перемене в гимназии шептал ему на ухо: «выглядай на почтальона»; после уроков он мчался на Ланжерон, откапывал, прочитывал, составлял ответ, закапывал и мчался ко мне домой — позвонить у двери и шепнуть: «выглядай…»; тогда мчался я…) и про газету «Шмаровоз»

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

- еврейский русскоязычный писатель, видный деятель сионистского движения. Близкий друг Корнея Чуковского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
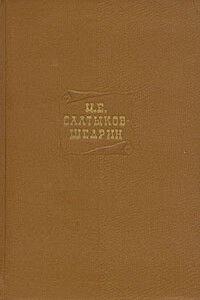
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
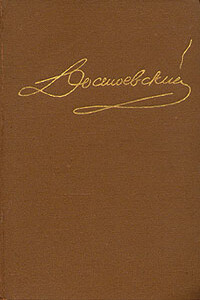
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.