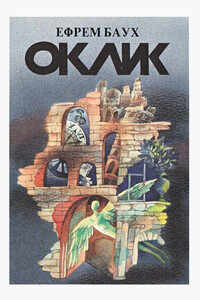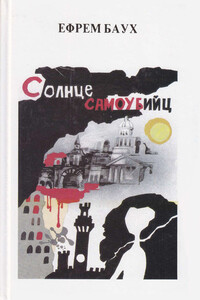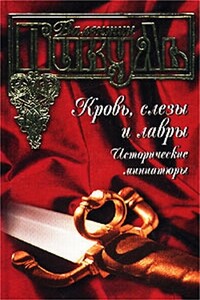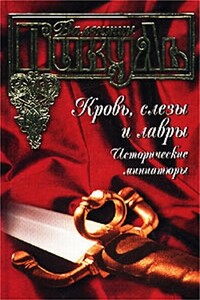Да, Моисей, ты благословил свой народ, спел последнюю свою песнь, но признайся честно самому себе: каким бы великим ты ни был, отдал бы все, чтобы вернуться к началу и задержать движение руки женщины, подносящей ко рту плод с древа жизни и смерти. Она, не обладавшая и каплей твоей мудрости, так вот запросто, легкомысленно держала ключ к вечности. Сам Он оказался бессильным, свят, свят… Нет, это был Его замысел — слишком не под силу было бы Ему нести вечность в потоке человеческого рода, хотя Он всей душой жаждал ее, будучи Сам воплощением этой вечности.
Господи, неужели и Ты ощущал двоякость всякой сущности и потому позволил мимолетному ничтожному жесту руки, подносящей плод ко рту, свершиться?
Моисей содрогнулся: сам приход этой мысли показался ему последним мигом жизни.
Вздохнул. Жив. Всегда ругал Аарона за то, что тот был отчужден от всех, полон печали жизни, хотя от него всегда пахло молоком младенчества. Теперь Моисей ощутил этот младенческий запах, он, старый пень, ищет в этой млечности намеки пусть на печальную, но жизнь, не может отделаться от мысли, хоть гонит ее от себя, что завидует псу, который убегает от него, поскуливая, ибо чует запах приближающейся смерти. Такой тоски, такого всеохватного одиночества он еще не чувствовал, но готов быть и в этом долго-долго. Ничего противоестественней и в то же время реальней не может быть, когда приступ черной меланхолии оборачивается единственной и даже желанной формой жизни, хотя разумом понимаешь — негоже так цепляться за этот свет, и в первую очередь ему, Моисею.
Какая прекрасная луна в этом горчайшем воздухе…
Ощущает Моисей прикосновение, печальное и нежное, — то ли лунного света, то ли губ, то ли Ангельского крыла, — вздыхает и прикрывает веки.