Пушкинский Дом - [41]
Ничто не упустила отставная учительница, до гвоздя все вывезла в Йошкар-Олу. И сколько ни говорили ей Одоевцевы, рояль-то хоть оставьте, что рояль они купят, что он не вынесет перевозки, что в Йошкар-Оле он никому и не нужен — губы ее становились все более ниточкой, и она не дала себя провести: рояль поплыл в Йошкар-Олу. Кажется, именно не поехал, а поплыл, потому что так оказалось дешевле, а торопиться ей было некуда Любопытно, что семьи у нее тоже не было.
Даже Пюви де Шаванна, сколько ни объяснял ей Лева, что это всего лишь репродукция, не стоящая ни копейки, а ему дорога как память… — она, передергиваясь от слова «копейка», тоже не дала. Ну да, как память… Можно было вспомнить рассказы дяди Диккенса о фамильной жадности… Одоевцевы их потом, перебирая учительницу, вспомнили.
Только и сумел Лева, что стащить «Атлантиду», пока она следила за Левиной мамой, к которой с самого начала отнеслась с необъяснимой пристальностью. Он перечитал ее и растрогался… «В эту тихую, лунную ночь де Сент-Ави убил Моранжа…» >{51}Зато бумаги дяди Диккенса отдала она Леве с легкостью. Их, впрочем, отобрала мама и заперла. Лева не уверен, что она их не почитывала, оставаясь в одиночестве. Однажды она передала Леве «как специалисту» две тетрадки: посмотри, может, тебе будет любопытно… Это были сочинения Диккенса.
Одна тетрадка называлась «Стихотворения», другая — «Новеллы». Лева испытал стыд и боль любви, читая их… Он неизбежно «уценил» дядю Митю по отношению к культивированным детским представлениям. Но эта уценка была не совсем хамской, а многоступенчатой и сложной: низкое удовлетворение от полупадения кумира сменилось разочарованием (не от кумира, а от этого падения), а разочарование — стойкой нежностью. Боль от крушения старого образа оказалась легкой и быстрой, а становление нового — было зато светлым и радостным, уверенным и окончательным — как бы истинным. В общем, Лева лишь сильнее полюбил этот образ, теперь уже не прибавлявший к себе черт.
Стихи были бесспорные: слабые и наивные до неправдоподобия, — но и в них сквозила незапятнанная диккенсовская душа. (С прозой, в отношении оценок, вообще обстоит сложнее… Ее труднее оценивать категорически, как поэзию: поэзия и непоэзия — середины как бы не существует. В прозе всегда что-нибудь да окажется выраженным: намерения ли автора, сам ли автор… Как документ хотя бы она всегда представит частный интерес.) Проза же Диккенса (дяди) нам даже чем-то нравится, и мы оцениваем ее выше, чем Лева, еще не вполне свободный от снобизма. С Левы, в данном случае, и нельзя спрашивать, хотя он и специалист в этой области более профессиональный, скажем, чем мы.
Он не может судить объективно потому, что чтение прозы Диккенса-дяди для него скорее непосредственный, личный опыт, нежели опыт опосредствованный, читательский. У него возникают иные связи, кроме выраженных именно этой прозой. Для него, например, потрясением было некоторое приоткрытие завесы между поколениями, завесы, всегда существующей… Так юный человек, достигнув сам возраста личной жизни и с головой уйдя в нее, вдруг задает себе наивный вопрос: а что, неужели у других так же? — и. в поисках ответа, вспоминает (кого же еще может вспомнить человек столь юный?) своих родителей и обнаруживает, что ничего-то в этом смысле ему про них неизвестно: любили ли они, страдали ли, какие они были и, может даже, есть для себя и друг для друга, когда его, скажем, нет? неужели они тоже… и т. д. То есть ему, уже взрослому, казалось бы, человеку, предоставляется постигать все самому в формах, предложенных его временем, а то, предыдущее, поколение стареет и уходит, так и не раскрыв перед ним карт: жило ли оно вообще? — оставляя ему на всю жизнь запас образов и опытов детства о жизни людей взрослых. Это, наверное, замечательно, и тут есть тайна, нерушимая и святая — охранная. Потому что даже совершенная логическая уверенность, что у других так же, остается пустой и неживой, неоплодотворенной. Это-то, возможно, ценой страданий и позволяет человеку проживать дальше свою жизнь…
Так вот, когда Лева читал сочинения Диккенса-дяди, то завеса эта как бы шевельнулась от ветерка и чуть загнулся край… Никаких «подробностей» в пошлом смысле он там не вычитал, зато образ человека, старого и мудрого, с неким уже сверхопытом, выраженным в одном лишь поведении, где каждый жест является конечным и итоговым, завершает глубокий ряд, — такой образ сильно покачнулся, обнаружив бесконечную детскость, наивность, сентиментальность, отсутствие вкуса и силы. Зато, тут же, этот образ был заново отштукатурен и раскрашен в трогательность: раньше люди были чище и благородней, раньше люди были разные, раньше они были наивней, трепетней и идеальней — это и есть индивидуальность в истинном, а не в «профессиональном» понимании («стать индивидуальностью»), — все эти «раньше люди были» равнялись одному ушедшему дяде Диккенсу.
Тут наблюдался один эффект, который наводит нас на одну легкую мысль о природе прозы, и мы не можем удержаться от этого намека…
Эффект этот заключается в том, что, внезапно наткнувшись на страничку человека, хорошо знакомого или даже близкого, но про которого мы не знали, что он «пописывает», и, с непонятной жадностью, прочтя ее, мы тут же начинаем знать о нем как бы во много раз больше, чем знали до сих пор путем общения. И не в каких-либо секретных или ревнивых фактах дело. Доказателен как раз пример, когда подобных фактов для любопытства или ревности мы бы на этой страничке не нашли. Именно в этом случае нам ничто не заслоняет и мы узнаем про автора еще больше. Та непобедимая любознательность, с которой мы поднимаем, при случае, подобную страничку — есть не что иное, как жажда узнать «объективную» тайну — тайну «без нас», а такая тайна — это облако, на котором мы живем. Что же мы узнаем из этого листка, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет («ревнивые факты»).
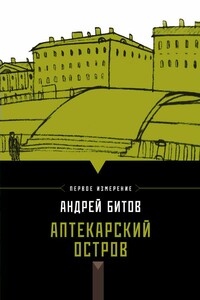
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
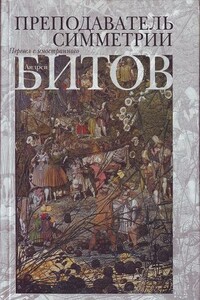
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.