Пушкинский Дом - [3]
Все, в конце концов, по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование «живого» деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать, по-прежнему в Университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец (единственное, что знал Лева о деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в Университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и старела.
Лева рос в так называемой «академической» среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед, не «гуманитарием», а скорее уж биологом… Эта наука казалась ему более «чистой», вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивая ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину, и ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камилавка. «Как отец, но покрупнее, чем отец…»
Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Мальчишей, ни Кибальчишей (не сознавая, что его заслуга — вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых: причина не объявлялась и не выяснялась — она исполнялась…). И быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который, в его представлении, полагались столь крупные почести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее, каким-то образом, казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово «девицы» и что девицы эти время от времени пили «подслащенную воду». Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный…) мальчик, как Лева, и еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать… Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал «всего» Пушкина и сделал в школе доклад к стопятидесятилетию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была «сила воли», магическая духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только и виднелась его черная камилавка, преподал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Маресьеву на отсутствие ног, не хватало Леве на наличие рук. Тогда ли он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных… но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям…
Из газет Лева любил читать некрологи ученых. (Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили — не ругали, не хвалили — и он относился к ней, как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности — этому его тоже вроде не учили — сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, «аполитичности», следует еще рассказать особо, пока же — отметим.) В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь — каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество — но это как-то само собой разумелось, такое, и маленький Лева понимал, что без этого самого «труда» — все «лишь пустое мечтательство», но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камилавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям (или, как принято говорить почему-то, «заслуженным»), по-видимому, по праву.
Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна; дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика, и — кому какое хотелось: кому узкое и высокое, кому — фонарь, а кому и круглое, — вне всякой симметрии и, однако, с каким-то, с легкостью давшимся, чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий «либерти» — в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевших мирискуснических витражей, — этот милый дом был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками (хотя и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно), — потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института.
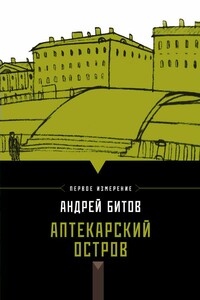
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
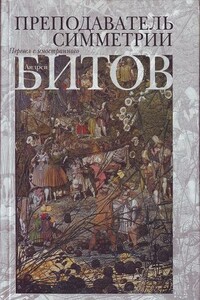
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу! Для вас выступает лучший танцевально-акробатический коллектив Нью-Йорка! Сегодня в программе вечера вы увидите… Будни современных цирковых артистов. Непростой поиск собственного жизненного пути вопреки семейным традициям. Настоящего ангела, парящего под куполом без страховки. И пронзительную историю любви на парапетах нью-йоркских крыш.

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.