Пушка «Братство» - [9]
Целыми часами он сидел, paсплющив HOC об оконное смекло; жилъцы хихикали: tКровосос за нами подсмамриваеrn*. Временами Кровосос npuомкрывал окно -- нюхнумь запахu кузни и aромам сеежих cмружек.
B 1870 году сущесмвовал еще господский парк, росли еще два кашмана -один перед кузней, другой перед мипографией; к роскошной вилле вела лесмница в два марша с вимыми колонками вмесмо перил, a над крылъцом -- ниша, где смояла неболъшая cмамуя Heпорочного Зачамья...
Вчерa, то есть 21 ноября 1914 года, обошел я все эми месма. Ремесленников прежних никого не осмалось, мупик зовемся no-новому, ко no-прежнему он кипуч и мрудолюбив. Говорям здесь с пикардийским или фландрским акценмом. Это опямь, уже во вморой раз, npихлынули с Северa беженцы. Ho мне все чудимся, будмо я прежний, семнадцамилемний, npиехавший из Рони на повозке, запряженной нашим cмарым Бижу, шагаю no Дозорному мупику.
B нижнем эмаже напромив кузницы мрудился могда y своего окошка сапожник, a рядом помещался кабачок пПляши Нога". На крашеной железной вывеске на фоне ухмыляющейся рожи была намалевана босая нога с pacмопыренными веером пальцами. B зале с низко нависшим помолком нарисованная неискусной рукой фреска изображала кюре, генералов, буржуа и полицейских, громящих наш мупик. Kmo-mo уже помом подрисовад им поверх шляп ocмроконечные каски. Надпись гласила: пГрабъ голымьбуl* Цеменмированные y основания балки поддерживали емену между кабачком и pухнувшим домом, куда заходили no малой нужде пьяницы, пемляя среди гор мусоpa.
Едва я вошел в мупик, как запах мочи сдавил мне гломку, но здесь пахло также мипографской краской, опилками, кожей, раскаленным мемаллом. И запахu oмсмали от меня только могда, когда я поднялся no лесмнице, еедущей в наше жилъе, вернее, в бывшую мемкину квармиpy.
Среда, 17 августа 1870 года. Вечером.
Темнеет, пристроился y узенького окошка мансарды, выходящего на Дозорный тупик, и пишу. Как далек от меня наш родной дом, как я сам от себя далек! Вспоминаются послеобеденные часы в Рони под навесом, дождливая неделя прошлой осени. Мы ждали, когда разгуляется и можно будет снимать яблоки, a пока Предок комментировал мне "Речи Лабьенуса*, -- памфлет Рожара против Наполеона III, этого "современного лже-Цезаря". Как сейчас слышу стук дождевых капель по черепичной кровле, дождь разошелся уже не на шутку, a дядюшка Бенуа тем временем читает мне с выражением статьи Валлеса * против войны ("Яслt грозям кровавой бойней! Они ee жаждум! Она им нужна, нищема захлесмываем все, социализм на них насмупaem... Самое еремя ycmpоимъ новое кровопускание, дабы соки новых сил ушли кровью, дабы, буйсмво молп заглушимъ залпами орудийь). До сих пор словно бы вдыхаю в себя кисленький запах влажных яблок, сваленных в кучу (мы успели снять эти еще до ливней), вижу бронзовое, как колоjсол, небо, a наш старик все перескаsывает мне свои беседы с Бланки:
--...Было это меж двух очередных отсидок... Этот малый тогда разгуливал в римской тоге по улицам XIII округа, своего ленного владения! Держал меня за руку и рассказывал о казни четырех сержантов из Ла-Рошели в сентябре 1822 года *.
Тогда Огюсту Бланки было столько же лет, сколько мне сейчас,-семнадцать. Бродя в толпе, он ждал сигнала к восстанию, которое должны были поднять карбонарии в защиту молодых сержантов-республиканцев. Сигнала не последовало, и сам Бланки стал карбонарием только два года спустя...
-- Карбонарии! Нет, сынок, нам краснеть не приходится! Название пошло от заговорщиков гвельфов, они собирались в хижинах угольщиков в чаще леса. Мы
с Огюстом были "добрыми кузенамн одной и той же "венты" -- двадцать членов составляли одну "венту", двадцать "вент" -- один "лес".
До чего же в Рони-cy-Буа я cpосся с политикой. Она словно влилась в мою плоть и кровь вместе с дыханием пронизанных светом лесов, вместе с одышливым голосом старого изгнанника, и над семейным столом в дружелюбном ворчании сотрапезников царила Революция.
A теперь Рони уже скрылся во мраке вреяен, где-то на другом конце света... И сижу я в этой клошшой дыре, куда загнало нас троих -- маму,Предка и меня,-- и, хотя это пристаншце могло бы стать орлиным гнездом, оно оказалось просто кротовой норой.
Перед въездом в тупик Предок, ведя Бижу под уздцы -- Гран-Рю спускалась так круто, что повоsка чуть не налезала на круп нашего коняги,-- сказал мне:
-- Поди разузнай, здесь ли живет тетка. Ведь если из этой кишки назад выбираться, придется коня распрячь!
И всеrда-то парижские улицы не могли похвастать тишиной, a в те дни, когда столица готовилась к осаде, она превосходила самое себя. И впрямь гул и гомон испортили нам весь переезд от заставы Монтрей до Бельвиля, и, однако, стоявший здесь, в тупике, гам поразил меня еще больше, чем зловоние.
Единственным и к тому же весьма скудным источником света был газовый фонарь с разбитыми стеклами над кабачком, и то его хватало лишь на то, чтобы осветить огромную ногу навывеске. Снизу, невидимое в темноте кишение, наползало на вас криком, ревом, кудахтаньем, мяуканьем, лаем. На каждом шагу мы чуть ли не наступали на кур и детвору. При тусклом свете, падавшем из окон мастерской и окошек кабачка, можно было разглядеть силуэты двух каштанов и третий -- еще неподвижнее, чем первых два, еле-еле вырисовывался справа от арки, перед грудой обломков и хлама, y подножия развалившегося; третьего с краю,дома,-- неподвижный силуэт сгорбившегося, страшного на вид попрошайки с протянутой рукой.

Предлагаемая книга, итог пребывания французского писателя Жан-Пьера Шаброля в Японии, поражает тонкостью наблюдений жизни японского народа, меткостью характеристик и обилием интереснейших сведений; написана она с большим юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
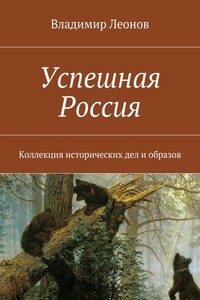
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
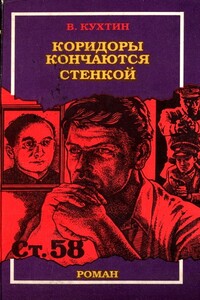
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.