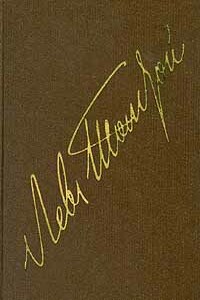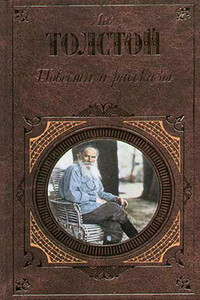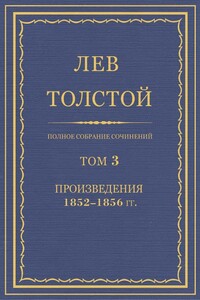Pierre виделся последнее время с женой[2737] редко и никогда с глазу на глаз. И в Петербурге и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню и остался в своем огромном, отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов.[2738]
Как ни мучительна была вся внутренняя работа прошедшей, бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая. Он прилег на диван[2739] и хотел заснуть для того, чтобы забыть всё, что было с ним, но он не мог этого сделать.[2740] Он должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате.
Лицо Долохова страдающее, умирающее, злое и всё с притворностью какого то молодечества, не выходило у него из воображения и требовало, неумолимо требовало, чтоб он остановился и обдумал значение этого лица, значение и участие этого лица в своей жизни, и всю эту прошедшую жизнь. Памятное прошедшее его начиналось в его воспоминании со времени женитьбы (до этого было всё ровное счастье), а женитьба следовала так скоро после смерти отца (так мало он успел опомниться в своем новом положении тогда), что ему казалось, что и то и другое случилось вместе.
«Что ж было? — спрашивал он сам себя. — В чем же я виноват?[2741] Да, всё это ужасное воспоминание, когда я после ужина у князя Василья и сказал эти глупые слова: «Je vous aime».[2742] Всё от этого, я и тогда чувствовал. Я чувствовал тогда, что не то, так и вышло». Он вспоминал медовый месяц, и ему стыдно стало, как было стыдно тогда, и всё первое время.[2743] Особенно живо, и оскорбительно, и постыдно было для него воспоминание, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12-м часу дня, в шелковом халате, пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Pierr’a, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие к счастию своего принципала. Pierre краснел всякий раз, как живо вспоминал этот взгляд. Еще одно из оскорбительнейших воспоминаний было то, что для нее, для жены, он перестал носить короткие волоса и очки. Теперь он вспомнил это и охнул. Он вспомнил, как он видел ее еще прекрасною, как она поражала его своей гордостью, спокойствием, умением безыскусственно и изящно обращаться в высших сферах. Как его поражало ее искусство управлять домом и самой быть grande dame,[2744] и поставить дом на ногу grand seigneur’скую.[2745] Потом он вспоминал, как он привыкал уже к тем формам изящества, в которые она так умела облекать себя и свой дом, как он стал искать содержания и не находил его. За блестящими формами не было ничего. Они были ее целью. И холодность ее всё увеличивалась. Он вспоминал, как он нравственно суживал глаза, чтобы найти ту точку зрения, с которой бы он увидал что нибудь хорошее, какое-нибудь содержание, но ничего и никакого не было. И не было в ней недовольства этим отсутствием. Она была довольна и спокойна в своей штофной гостиной, с жемчугами на прелестных плечах. Анатоль ездил к ней занимать у ней деньги и целовал ее в голые плечи. Она отгоняла его от себя, как любовника. Он, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой сказала, что она не так глупа, чтобы быть ревнива, пусть делает, что хочет.
Pierre спросил раз, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от него детей у нее не будет.
Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность ее выражений: «я не дура, поди сам, allez vous promener»,[2746] свойственные ей, несмотря на ее воспитание в высшем, аристократическом кругу. Часто, глядя на ее успех в глазах старых, молодых мужчин и женщин, Pierre недоумевал и не мог понять, отчего он не любит ее. Вспоминая себя за всё это время, Pierre помнил в себе только чувство ошалелости, зажмуренности, с которыми он шел и не позволял руководить себя, чувство удивления, равнодушия и нелюбви к ней, и постоянно чувство стыдливости за не свое место, за глупое положение счастливца,[2747] обладателя красавицы. Потом он вспоминал, как незаметно, независимо от его воли, видоизменялись все условия его жизни, как он втягивался в ту жизнь барича, праздного аристократа, которую он, напитанный идеями французской революции, так строго судил прежде. Деньги у него брали все, со всех сторон, и у него требовали денег, и обвиняли в чем то его. Время его всё было занято. От него требовали самых пустых вещей — визита, выезда, обеда, но эти требования без перерыва следовали одно за другим. И требования эти делались так просто, с таким сознанием, что это так должно быть, что ему не могло притти в голову отказать. Но вот[2748] в Москве намеки княжны, это анонимное письмо, и всё стало ясно.[2749] «Да, да, я не мог никогда переносить его», думал Pierre о Mortemart’e. Он даже в своих мыслях не мог назвать его. И теперь Долохов, вот он, сидит на снегу[2750] и насильно улыбается, и умирает с проклятиями. Но это бы еще не так ужасно, а с притворным каким молодечеством.[2751]
Pierre был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую, слабость характера, не ищут confident