Проза. Поэзия. Поэтика - [6]
В вопросе о назначении искусства Эйзенштейн дает не только негативную часть формулировки (притом пользуясь в ней почти теми же образами, что и Шкловский: «разбить “в себе” заданное, аморфное, нейтральное, безотносительное “бытие” события или явления»7 и т. п.), но и конструктивную – создание нового, нужного автору поэтического ряда («собрать» явление вновь, «согласно тому взгляду на него, который диктует мне мое к нему отношение»)8.
В работах Эйзенштейна много убедительных анализов прозы, поэзии, живописи, кино и т. д. Однако самым ценным представляется вырисовывающаяся из его работ «порождающая грамматика» произведений искусства. В книге В. Б. Нижнего (Нижний 1958) показано, как тема, то есть краткое изложение некоторого эпизода и идейного взгляда на него, разворачивается в подробную и эффектную мизансцену, а затем и в последовательность кадров (художественный текст) – под действием системы приемов выразительности (см. ниже). Шаг за шагом можно видеть, как все новые предметы, персонажи, поступки и их конфигурации подбираются по функциям, которых требует наиболее «ударное» выражение темы. Здесь находят свое место и идеи Шкловского, Проппа и К. Леви-Стросса о предметах (персонажах, ситуациях) как пересечениях необходимых функций. Образное воплощение темы основано на многосторонности предметов, взятых вне искусства, и сводится к задаче «выискать» для каждого факта такое сцепление его элементов, которое, сохраняя самый факт, содержало бы одновременно и некую фигуру, навязывающую зрителю отношение автора к этому факту9.
Иначе говоря, Эйзенштейн предлагает рациональные, в принципе формализуемые операции для того наиболее ответственного участка порождения художественного текста, каким является грань между «декларативно» задаваемой темой и ее образным эквивалентом, то есть как бы между «неживой» и «живой» материей в искусстве. Для вдумчивого и терпеливого исследователя уже это является залогом решения вопроса об овладении семантикой образа10. Очевидна глубина и по существу единственность этого подхода, особенно по сравнению с нередкими теперь попытками привязать смысл образа непосредственно к результатам тех или иных арифметических действий.
Важнейшее место в порождающей поэтике, намеченной Эйзенштейном, как и вообще в поэтике, занимает учение о средствах выразительности (ср., в частности, его неопубликованный конспект университетского курса по психологии выразительности). Судя но напечатанным работам, имеется в виду вся система приемов выразительности (типа сюжетной цезуры, золотого сечения, повтора, усиленного повтора, «отказного движения», нагнетания напряжения, контраста, совмещения функций, проведения одной темы через разные линии, постепенного сплетения тем, внезапного поворота событий и т. п.), необходимых в самых различных по содержанию и жанру художественных произведениях. Функция этих приемов – в наиболее эффективной организации восприятия темы11.
Противники структурной поэтики с особенной уверенностью говорят о схематизме, убивающем «живое», и иронизируют по адресу структуралистов, неспособных «удержать целое». Подыскание общеметодологических аргументов против таких мнений не требует в наше время особой научной проницательности (ср. хотя бы статью Ревзин 1965: 73–87); в свете пути, пройденного другими науками12, эти аргументы могут быть, по-видимому, не столько оспариваемы, сколько принимаемы к сведению. Но критики схематизации, как видно, считают, что литература имеет принципиально иную природу, чем другие объекты науки, например, язык. Они напирают на ее переливчатость и трепетность, на индивидуальность ее восприятия отдельными читателями.
Что ж, некоторые читатели (зрители, слушатели) довольно удачно описывают свои впечатления. Например:
Маслянисто круглились и разбегались огни набережной в черной выгибающейся воде, сталкивались волны, люди, речи и лодки, и для того, чтобы это запечатлеть, сама баркарола, вся, как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и форшлагами, должна была, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз и взлетать и шлепаться на своем органном пункте, гулко оглашаемая мажорно-минорными содроганиями своей гармонической стихии (Пастернак 1991 [1945]: 405).
Интересно узнать, имеют ли в виду сторонники «удержания целого» соревноваться с подобными образцами, и если да, то насколько оптимистично они оценивают свои возможности13. Ведь альтернативой такому импрессионистическому описанию является научное (то есть то, что они называют схемой), имеющее свою логику.
Мы, со своей стороны, не считаем схематизацию синонимом банальности и поверхностного обмера; для нас это работа, начинающаяся с отыскания и, если угодно, угадывания той идейной конфигурации, которая и является «законом построения предмета». Руководствуясь здравым смыслом, литературоведы всегда стремились давать точные «идейные портреты» отдельных книг, писателей и направлений; они имели при этом смелость приписывать произведению (школе и т. п.) одни черты и, грубо говоря, отказывать ему в других, не боясь тем самым отлучить его от «вечно живого», «всеобщего» и «бесконечного». Правда, обнаруживаемые идейные «схемы» часто принимались за конечный результат в познании структуры вещи, лишь походя затрагивались «художественные особенности». Внимание исследователя далее направлялось вовне от произведения: полученный результат сразу же «вдвигался в социальную раму» эпохи, с ее социологией, философией и т. п. Для структуралиста же раскрытие темы – лишь первый шаг работы (см. разделы 3 и 5)
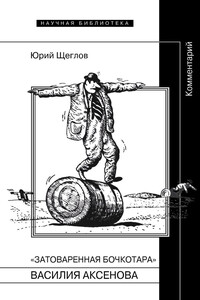
В книге публикуется последний масштабный труд замечательного филолога Ю. К. Щеглова (1937–2009) – литературный и историко-культурный комментарий к одному из знаковых произведений 1960-х годов – «Затоваренной бочкотаре» (1968) В. П. Аксенова. Сложная система намеков и умолчаний, сквозные отсылки к современной литературе, ирония над советским языком и бытом, – все то, что было с полуслова понятно первым читателям «Бочкотары», для нынешнего читателя, безусловно, требует расшифровки и пояснения. При этом комментарий Щеглова – это не только виртуозная работа филолога-эрудита, но и меткие наблюдения памятливого современника эпохи и собеседника Аксенова, который успел высоко оценить готовившийся к публикации труд.

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».