Проза - [10]
– Ну а монахи, отшельники?
– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!
– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?
– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой – так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...
А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?
Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»
Он, разгораясь:
– Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!
Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):
– Вы мне лучше про отца расскажите.
– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесятой, – это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый – вправду был?
Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.
– А вы, барышня, смелая будете.
– Как и вы.
(Смеется).
...Но вы мне про отца рассказать хотели?
– Отец. Отец мой – околодочный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)... Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы... Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит – и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос) ...Все судьбы знает. Все сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтил. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей – она, змеиной кожей и свалится»... Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.
Два Георгия, спас знамя.
– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?
– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!
Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<<лей>>. Грабил банк в Одессе, – «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.
– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет? Ваше высочество». Многие солдаты плакали.
Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...
– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило! – ...Пойла-стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?
– Попадетесь.
– Я?!! – Рожа из вдохновенной делается грабительской. – Я – да попасться? Нерожён еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) – по разинскому!
– А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.
Говорю, как утопающий, – нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает).
После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.
Стенька Разин!
Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер – хочешь? где сквозь дыру – самая большая звезда.
Но...
– Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.
С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).
– Дэ... мэ... А вот и ять, – аккурат церковка с куполом.
– А вы сам деревенский?
– Сло-бодский!
– А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу – про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, – отец сказывал.

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

«… В красной комнате был тайный шкаф.Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...».

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) – великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность.

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
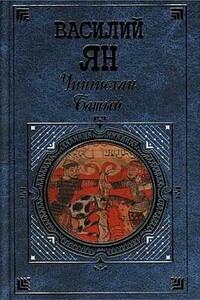
Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.
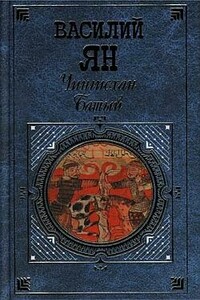
Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.
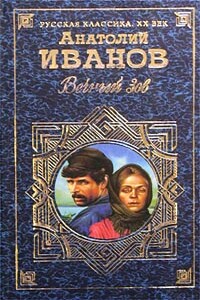
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
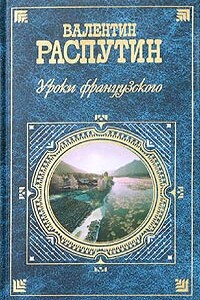
В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».
