Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - [7]
Вслушивается Шухов в медленный рассказ бригадира Тюрина, в который вместились коллективизация (высылка кулацких семей, исключение из нормальной жизни кулацких детей), кировский поток, ликвидация тех, на ком долго держался режим, в ходе Большого террора («Перекрестился я и говорю: „Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь“» (62–64)).
Судьбы Павла и Гопчика — свидетельства украинского сопротивления большевикам. Судьбы Кильдигса, торгующего табаком прижимистого латыша, «братьев»-эстонцев — свидетельства «зачистки» аннексированных балтийских государств. Узник Бухенвальда Сенька Клевшин представительствует за военнопленных, которым удалось выжить в нацистских лагерях, «бывший Герой Советского Союза», залезший на столб, чтобы разглядеть показания термометра, — за офицеров, освободивших Россию и Европу, но не успевших стать декабристами, кавторанг — за тех, кому досталось во время войны иметь дело с союзниками, теперь назначенными отвечными лютыми врагами[19], Цезарь — за космополитическую интеллигенцию… «Один день…» втягивает в себя не только шуховскую десятку, не только историю закрепощенного советского крестьянства (беглые, к случаям всплывающие, воспоминания Ивана Денисовича и письма из деревни Темгенёво), но — повторим и подчеркнем — всю подсоветскую историю.
Увидели бы мы эту историю в такой полноте и достоверности, избери Солженицын другого героя? Нет, не увидели бы. Как не видят Шухова с миской каши в руках Цезарь Маркович и (ровно так же!) «двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик» — похоже, убежденный противник режима — Х-123, спорящие о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». У каждого из них своя мысль и стоящая за ней картина мира. Как и у кавторанга, мучительно обживающегося в лагере. Как у латышей, эстонцев, украинцев и других «националов» (они попали в абсолютно чужое пространство и, естественно держась друг за друга, столь же естественно по возможности игнорируют все здешнее). Как у «шакала» Фетюкова, тщащегося выжить любой ценой. Как у бригадира Тюрина, что в «доброй душе» (62) может, почти не обращая внимания на слушателей, рассказать «как не о себе» (63). На самом деле — именно о себе, давая себе редкий роздых от многолетней — заставляющей выть по-волчьи — бригадирской колотьбы. Как у Сеньки Клевшина, у которого отбит слух (что, разумеется, не случайная деталь, а скрытый символ), возвращающийся к нему лишь в экстремальной ситуации (когда прибегающих последними на построение Шухова и Клевшина встречает остервенелое улюлюканье пяти сотен зэков (76)). Как у Алёшки, отрешившегося от всего мирского, до конца вверившегося Богу. Конечно, все они (кто больше, кто меньше) временами видят Шухова (Цезарь вовсе не плохо относится к услужливому Денисычу), но иначе, чем заглавный герой рассказа каждого из них. Конечно, каждый из второстепенных персонажей «Одного дня…» мог бы стать протагонистом другого рассказа, но именно что другого — рисующего отдельную человеческую судьбу и, возможно, стоящую за ней историю конкретной социальной, национальной, возрастной группы. Но никак не общую нашу историю.
Мужицкая неприметность Шухова органически сопряжена с его приметливостью — основанной на долгом (не только лагерном) опыте, трезвой, часто усмешливой, но основанной на уважении к другим (совсем не похожим на Ивана Денисовича!) людям, на скрытом знании о великой ценности всякого человека, покуда теплится в нем что-то человеческое. Благодаря Шухову мы видим живых людей, а не нумерованных рабов. И каждое живое человеческое лицо становится обвинением той системе, которая с момента своего возникновения ни во что ставит именно личность человека, его неповторимость, его свободу.
Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от сроку прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.
Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой.
А домой не пустят…
(112)
Эти размышления Шухова навеяны его вечерним спором с благословляющим узническую судьбу Алёшкой. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать» (111–112). Иван Денисович не может проникнуться Алёшкиной верой (за что его в нынешние времена кое-кто готов строго корить, как когда-то корили за то, что он в лагере не борется). Но правду Алёшки он слышит. И эта правда парадоксальным образом не противоречит стремлению Ивана Денисовича домой, пусть и «колеблемому» (этот мотив возникает в рассказе и раньше) грустным признанием силы господствующего порядка. Не противоречит, ибо за частными правдами двух несхожих терпеливцев стоит правда общая — предназначенность человека свободе. И совсем не случайно, что дневные раздумья Шухова о «выворотном» законе, о нынешних двадцатипятилетних сроках, о возможности получить новую десятку или ссылку разрешаются неслышным окружающим, но истовым возгласом: «Господи! Своими ногами — да на волю, а?» (51).

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
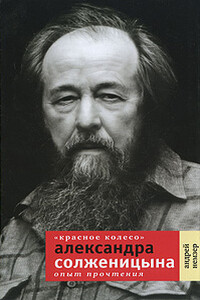
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)
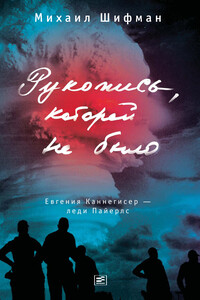
Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.
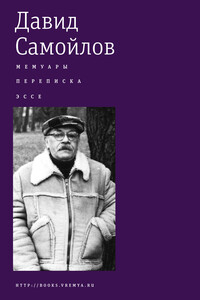
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.