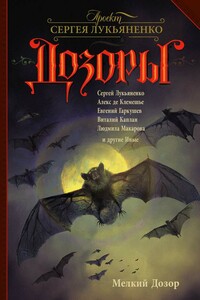— Врата за тем барханом, — говорю я.
— Вы дождетесь меня? — Ольга едва унимает сбившееся дыхание.
— Конечно, — отвечаю я. А когда ее фигура скрывается за барханом, добавляю, — мы с Домиником будем ждать вас здесь. Только просите громче, чтобы услышали там, в Раю.
* * *
На пороге Шеола время замирает. Оно делает воздух вязким, как мед, забивает гвоздь в солнце, приколачивает его к небу. За двое суток желтый шар не сдвинулся ни на йоту.
Я пью подсоленную воду и засыпаю, когда вздумается. Вокруг меня темнота. И где-то в ней лежит накрытый одеялом Доминик.
Иногда, перед тем, как я проваливаюсь в забытье, темнота отступает, словно океан во время отлива, и на илистом дне остаются куски воспоминаний. Ошметки прожитых не мной жизней.
Пожилой неприглядный немец и юная красавица-гречанка. Генрих и Софья. Электрические разряды и ровный свет лампады.
— Мне нужен город Приама, — рубит словами тишину немец. — Я готов душу продать, чтобы найти его!
Мне не нужна его душа, я просто исполняю свой долг. Но я не хочу ошибиться.
— Зачем? — спрашиваю я.
— Люди должны знать правду, — бегут электрические искры в арийском тембре.
— Помогите нам, — трепещут язычки пламени в греческом благоухании.
— Хорошо, — говорю я чужим голосом и веду их к холму Гиссарлык.
Тогда они дошли до Трои, а я стал свободен. Сбросил с себя бремя поводыря.
Образы прошлого так отчетливы, что иногда я верю, что это и впрямь случилось со мной.
Генрих Шлиман и Софья Энгастроменос. Люди, которые искали Трою. Искали и нашли.
История повторяется. Теперь я — Проводник, а мои спутники — Доминик и Ольга. Женщина, живьем шагнувшая в ад, и мертвый мужчина, накрытый шерстяным одеялом.
Я лежу на горячем песке, под солнцем, которое не садится, и думаю, настолько ли сильны эти люди, чтобы дойти до цели. Чтобы освободить меня от проклятия, наказания за алчность, победившую любопытство.
Кончики пальцев до сих пор чувствуют борозды, оставленные превратившимся тысячу лет назад в прах резцом. Ладони не могут забыть прохладу крышки базальтового саркофага. Глаза — нестерпимый, испепеляющий свет, а уши — голос. Громоподобный, сплетающий нервы в канаты, завязывающий нутро в узел, голос: «Здравствуй, Проводник».
И с той самой минуты я обречен вести к легенде тех, кто может осветить путь внутренним сиянием. Идти и надеяться, что они дойдут.
— Где Ольга? — вплетается слабый шепот в шелест хамсина.
Я открываю глаза и вижу, как под шерстяным одеялом мерцает уголек.
— В Шеоле, — говорю я и подхожу ближе. Протягиваю флягу.
У Доминика нет сил удивляться и переспрашивать. Он лишь шумно глотает воду, запрокинув голову. Серый шар изумленно заглядывает ему в лицо.
И тут за моей спиной начинается новый восход. Из-за бархана поднимается еще одно солнце. Даже мне, выжженному пустыней давным-давно, становится жарко.
— Это Ольга? — Доминик прикрывает глаза рукой. Он не видит ее света, он видит лишь маленькую фигурку на склоне. Слова начинают сыпаться из него, как горох из дырявого мешка. — Она ходила за помощью? Помогло противоядие? Где медики? Почему мы еще в пустыне? Да что тут, в конце концов, произошло?!
— Она докричалась до Неба, — говорю я и улыбаюсь. Искренне, от чистого сердца, а вовсе не потому, что улыбка всегда помогала мне победить закипающую злобу.