Провинциальная философия : трилогия - [71]
Да, Антон Лизавин в этот час колол дрова. Заготовленные с осени кончились. В сарайчике оставался десяток недоколотых чурбаков, самых суковатых, трудных, отложенных когда-то под низ поленницы – авось не понадобятся. Дошла очередь и до этих орешков, деваться было некуда. Антон возился с ними отчаянно. Он разогрелся на утреннем морозце, и тело его дымилось. Запах свежего на расколе дерева был сладок дыханию. Трудней всего давались чурбаки, взятые близко к корню, со спутанными, переплетенными волокнами и ловушками внутренних сучков; топор увязал в них, лезвие его было горячим. Попадались и поленья со сдвоенным набором годовых колец – здесь дерево готовилось, видимо, раздвоиться, и между этими кольцами (они напоминали круги от двух рядов упавших в воду камней) порой открывалась затаенная внутренняя кора. Сырье для недорогой метафоры, – отметил про запас Лизавин. Искорка писательской мысли высветила было рядом мысль другую, давно разыскиваемую, насущную… Но тут во двор прибежал с улицы спортсмен Вася Лавочкин. Он круглый год ежедневно совершенствовал технику барьерного бега и теперь, после разминки, держась рукой за перила крыльца, стал отрабатывать махи правой ногой. Его задачей было делать каждый день на пять махов больше, чем накануне. Лизавин зачем-то попробовал их считать, но скоро оставил. Разогнувшись, придерживая поясницу, он с уважением смотрел на одухотворенное лицо Лавочкина. Пустые веревки для белья, от стены до турника, пересекали небо над маленьким двориком. У забора спинами друг к другу жались два дощатых нужника: один для прописанных в доме по Кампанелле, другой – для числившихся по Кооперативной. Первый был заперт на замок, чтоб не пользовались прохожие, и даже имевшие ключи втихомолку бегали во второй, вызывая частые скандалы, – хотя ямы под обоими все равно сообщались… Странная задумчивость овладела Антоном. Драгоценная мысль вернулась в потемки. Некоторое время он даже не мог вспомнить, что делать с валявшимися среди щепок дровами, с топором, со спортсменом Васей. Наконец – хотя и не сразу – все оказались устроены: спортсмен резиновой рысцой ускакал дальше на улицу, топор уткнулся в бревно под сарайной притолокой, дрова образовали скромную поленницу, отдельная же охапка их составила пищу огню.
Дома, слава богу, движения и мысли вправились в колею привычного автоматизма. На сковороде заскворчала яичница. Нужные вещи сами шли в руку, точно к хирургу, которому опытный ассистент по мановению вкладывает то скальпель, то зажим. Лизавин ценил надежность и верность этих четырех стен, где человек наиболее чувствует себя самим собой, где слова и мысли его звучат особенно уместно и полноценно, не требуя свежего напряжения, где все по мерке разношено, удобно, потерто на сгибах, где каждый создает себе мир по своему образу и подобию – в разных местах разный, из подручных материалов, но в то же время всюду один, предопределенный его внутренней сутью, как судьба, как кожа с опознавательным узором на пальцах. Милашевич где-то писал, что человек сращен с миром своего жилья, как кентавр, питается соками этой своей части тела и питает ее своими соками. А вот и сам Симеон Кондратьич дожидался своего часа на письменном столе. До начала занятий еще оставалось время, и Антон Андреевич сел разбирать рукописи.
Видимо, за недостатком бумаги Милашевич одно время писал на чем попало: на обороте конфетных фантиков или в чужой амбарной книге, которую Лизавин сейчас и открыл. Здесь была, между прочим, небольшая новелла о человеке, которому случайно досталась в собственность китайская лопаточка для чесания спины – такое, знаете, приспособление в виде изящной пятерни на длинной ручке лакированного дерева. И вот, казалось, никогда не было у него такой уж особой потребности чесать спину, а тут что-то новое появилось в его существе. Как посмотрит на это антивоенное снаряжение, использованное армией еще в турецкую кампанию… Тут Лизавин обнаружил, что по рассеянности перелистнул лишнюю страницу и обломок одной фразы, даже слова бессмысленно совместился с другим; на самом деле читать надо было: как посмотрит на это антикварное изделие, так у позвоночника начинают ползать словно бы насекомые… Но понял он это не сразу; так бывает, когда читаешь, задремывая, хотя он вовсе не был сонным, наоборот, в голове сияла слегка нездоровая, электрически резкая ясность, какая бывает после бессонницы. Было неуютное чувство, будто отовсюду дуют сквозняки, но откуда именно, не уловишь. От амбарной книги пахло клеенкой. На столе в рамочке стояла фотография Милашевича: пенсне со шнурком, бородка-перышки, сократовская лысина. «Отчего все же так пахнет клеенкой, Симеон Кондратьич?» – качнул головой кандидат наук. «Клеенкой? – повел тот ноздрями. – Не замечаю. Принюхался, должно быть». – «А так все в порядке?» – «Да помаленечку, дай бог не хуже». – «И супруга ваша благополучна?» – «Благополучна, ангел мой», – прижмурился философ за стеклышками пенсне. «И всем довольна-счастлива?» – «Странный вопрос!» – сказал Милашевич, не меняя выражения лица, но что-то на этом лице застыло, как у человека, ждущего, что его сейчас сфотографируют. «Я просто к тому поинтересовался, что есть некоторые как бы намеки в отношении вашей жены…» – «Оставьте, Антон Андреич! Что это вы!.. оставьте. Что за страсть пробиваться к каморкам, куда человек сам себя не пускает! По-человечески вдумайтесь. Сколько усилий тратишь, чтобы не выдать себя себе самому. Не дай бог! Так вот на тебе гробокопателей! Вообразите по себе, как станут когда-нибудь через ваши строки буравить душу. Если заинтересуются, конечно, строками и душой». – «Нет, я не к тому… что вы так разволновались?» – «Я, Антон Андреич, не за себя волнуюсь. Мне, если уж на то пошло, все равно. Но вам зачем поддаваться этой инфекции?» – «Да вот мысли стали приходить о соотношении внешней биографии с душевной». – «А-а! Мысли… Мое мнение вы знаете, могу повторить. В жизни истинно лишь то, что пропущено сквозь душу. Работа, судьбы других, мировые события – все твое, если они стали одушевленными, личными, кровными. В этом смысле у человека только личная жизнь – настоящая». – «Ну да, да, – согласился Лизавин, – прямо мои слова, подписываюсь». – «Но следует отсюда разное, потому что люди разные, и таков же выбор души, ее вместимость. Мы ищем богатства жизни вовне, пренебрегая глубинной своей гениальностью. Для иного, скажем, приятное почесывание спины – более подлинное переживание, чем кругосветный полет, после которого не пристанет к душе ни пылинки, чем какая-то дальняя катастрофа или засуха на другом полушарии, интерес к которым наружен, натужен и лишен любви». – «То есть все приспосабливается к личному пользованию, – уяснил Лизавин. – И уже где-то близко знаменитое: миру провалиться, а мне бы чай пить». – «Тьфу, господи! – обиделся Милашевич. – Нашли с кем сравнивать! Да плюньте вы этому истерику в его помойный чай! Ведь у него все одно вместо чая помои, в том-то и дело. Он ведь его пьет с отвращением, ради одного фальшивого принципа. Неужели вы не чувствуете? Потому что чай ему ничуть не интереснее мира и душа его не способна к радости. Тут коренная разница». – «Да-да, – пробормотал Лизавин. – Зато как мучится!.. Кстати, раз уж вспомнилось, Симеон Кондратьич, какой у вас способ заварки? Сколько вы на стакан берете?» – «Чаю-то? А зачем вам?» – «Попутно, чтоб не забыть. Рецептами интересуюсь». – «Рецепт – это пожалуйста. Хотя и не припомню, когда я настоящий-то чай последний раз заваривал. Это если довоенный у кого остался. Эпоху не забывайте, молодой человек. Ведь так всё – липовый цвет, знаете, кипрей…» – «То-то я и подозревал». – «Ну и что? Наслаждение не этим мерится. Бывает, и пустой кипяток да черствая горбушка слаще меда. Сами знаете». – «То-то и оно, что знаю. Но как такой чай предъявить другим? Все вопросы начинаются, когда соприкоснешься с другими. В близком чувстве, например. От этой клеенки каким-то одиночеством пахнет, обособленностью и самоудовлетворением. Простите за двусмысленное словцо. То есть другие люди для такой жизни не обязательны. И ты им не обязателен…» – «Люди разные, – поспешно повторил Милашевич. – Люди разные, в этом ответ на все. Напоминайте это себе – и успокоитесь. И вообще вам на лекцию пора, а вы не готовы».

Герои сказочной повести «Учитель вранья», пятилетняя Таська и её брат, второклассник Тим, увидели однажды объявление, что на 2-й Первоапрельской улице, в доме за синим забором, дают уроки вранья. И хотя Таська уверяла брата, что врать-то она умеет, они всё-таки решили отправиться по указанному адресу… А что из этого вышло, вы узнаете, прочитав эту необычную книжку, полную чудес и приключений.

В декабре 1992 года впервые в истории авторитетнейшая в мире Букеровская премия по литературе присуждена русскому роману. И первым букеровским лауреатом в России стал Марк Харитонов, автор романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Своеобразная форма трехслойного романа дает читателю возможность увидеть историю России XX века с разных ракурсов, проследить начало захватывающих событий, уже зная их неотвратимые последствия.

Новый роман Марка Харитонова читается как увлекательный интеллектуальный детектив, чем-то близкий его букеровскому роману «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Герой-писатель пытается проникнуть в судьбу отца, от которого не осталось почти ничего, а то, что осталось, требует перепроверки. Надежда порой не столько на свидетельства, на документы, сколько на работу творящего воображения, которое может быть достоверней видимостей. «Увидеть больше, чем показывают» — способность, которая дается немногим, она требует напряжения, душевной работы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
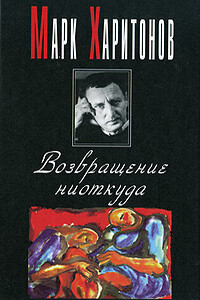
Марк Харитонов родился в 1937 году. В 70-е годы переводил немецкую прозу — Г. Гессе, Ф. Кафку, Э. Канетти. Тогда же писалась проза, дождавшаяся публикации только через двадцать лет. Читавшие роман Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», удостоенный в 1992 году первой русской Букеровской премии, узнают многих персонажей этой книги в романах «Прохор Меньшутин» и «Провинциальная философия». Здесь впервые появляется провинциальный писатель и философ Симеон Милашевич, для которого провинция была «не географическое понятие, а категория духовная, способ существования и отношения к жизни».

Главный герой романа — преподаватель литературы, читающий студентам спецкурс. Он любит своё дело и считает себя принадлежащим к «узкому кругу хранителей» культурных ценностей.Его студенты — программисты, экономисты, в общем, те, для кого литература — далеко не основной предмет. Кроме того, они — дети успешных предпринимателей. Тем не менее, и среди них нашлись люди мыслящие, заинтересованные, интеллектуальные. Они размышляют об устройстве мира, о гениальности, о поэзии. А ещё они влюбляются и активно участвуют в делах своих пап.Настоящая публикация — воспроизведение книги изданной в 2014 году.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)