Против Сент-Бёва - [17]
Что может быть менее расиновского, чем эти строки? Вполне допустимо, что сам предмет желания и мечты — именно французское очарование, среди которого жил Расин и которое он выразил (?), так, впрочем, и не ощутив его, но рассуждать так — все равно что не видеть различия между такими разными вещами, как жаждущий и стакан холодной воды в силу того, что он жаждет его, или между невинностью отроковицы и похотливостью, которую она пробуждает в старце. Г-н Леметр — то, что я скажу ниже, ничуть не умаляет моего глубокого восхищения им, равно как его чудесной, несравненной книгой о Расине, — был изобретателем (а их так мало в наше время) оригинальной критики, составляющей подлинное произведение искусства: в самых характерных из своих пассажей, которые не устареют благодаря лежащему на них глубокому отпечатку личности автора, он любит извлечь из произведения кучу всякой всячины, и она сыплется из него как из рога изобилия.
На самом же деле ничего подобного и в помине нет ни в «Федре», ни в «Баязете»>{56}. Если по какой-либо причине местом действия избирается Турция, но при этом читатель не получает о ней никакого представления, никакого понятия, и у него не возникает желания познакомиться с ней, нельзя сказать, что Турция присутствует на страницах данной книги. Расин солнечный, солнечное сияние и т. д. В искусстве в счет идет только выраженное или прочувствованное. Сказать, что на страницах какого-то произведения присутствует Турция, — значит сказать, что оно дает понятие о ней, впечатление от нее и т. д.
Знаю, привязанность к любимым местам может быть выражена иначе, не литературно — менее осознанно, но столь же глубоко. Знаю, есть люди — не художники, а представители мелкой или крупной буржуазии, управляющие, врачи, которые вместо того, чтобы обзавестись прекрасной квартирой в Париже или машиной или посещать театр, часть доходов тратят на домик в Бретани, в окрестностях которого прогуливаются по вечерам, не отдавая себе отчет в том художническом наслаждении, которое испытывают и которое выражают порой всего-навсего словами: «Чудесная погода», или «Как хорошо», или «Приятно прогуляться вечерком». Но ничто не свидетельствует о том, что это было присуще Расину, и в любом случае это никоим образом не могло бы приобрести ностальгический характер и колорит сновидения из «Сильвии». Ныне целая школа, кстати сказать небесполезная, отреагировала на царящее в искусстве бессмысленное пустословие тем, что навязала искусству новую игру под видом обновления древней игры; в этой новой игре за исходную точку берется следующее: чтобы не утяжелять фразу — лишить ее смысловой нагрузки, чтобы четче передать очертания книги — вытравить из нее выражение любых трудно поддающихся передаче ощущений, любых мыслей и т. д., чтобы сохранить присущий языку традиционный характер — ограничиться уже существующими готовыми фразами, даже не давая себе труда переосмыслить их; при таком подходе нет особой заслуги в том, что слог довольно ловок, синтаксис достаточно доброкачествен, а повествование весьма непринужденно. Несложно проделать путь бегом, если перед тем, как пуститься в него, выбросить все сокровища, которыми тебя снабдили. Вот только скорость, с которой преодолевается путь, никого не интересует, коль скоро к концу его приходишь с пустыми руками.
Если подобное искусство вправе заявлять о себе от имени прошлого, оно меньше, чем на кого-либо другого, может ссылаться на Жерара де Нерваля. Повод для таких заявлений появился у его представителей оттого, что в своих статьях, стихотворениях и романах они любят ограничиваться описанием французской красоты, «сдержанной, ясных архитектурных очертаний, под ласковым небом, с косогорами и церквями, как в Даммартине или Эрменонвиле». Трудно представить себе что-нибудь более далекое от «Сильвии»!
Если кто из писателей в противовес прозрачным и незатейливым акварелям и предпринял многотрудные попытки уяснить себе самого себя, высветить в себе затемненные оттенки, уловить глубокие закономерности, почти невыразимые ощущения человеческой души, так это именно Жерар де Нерваль в «Сильвии». Припомните-ка: то, что вы именуете наивной живописью, — сон о сне. Пытаясь уяснить себе странное ощущение, испытанное им в театре, Жерар вдруг сознает, что это — воспоминание о женщине, которую он любил одновременно с другой и которая, таким образом, господствует над определенными часами его жизни, каждый вечер в назначенный час овладевая его мыслями. Воскрешая былое в картине сна, он охвачен желанием перенестись в те края; он спускается по лестнице, открывает дверь парадного, садится в дилижанс и по дороге в Луази предается воспоминаниям и рассказам. После бессонной ночи добирается до места, и то, что предстает его взгляду, оторванному, так сказать, от реальности этой ночью без сна, этим возвратом в края, которые являются для него скорее прошлым, существующим в его сердце в не меньшей мере, чем на карте, — так тесно переплетено с воспоминаниями, которые он продолжает воскрешать, что читателю приходится постоянно возвращаться к прочитанному, чтобы понять, где он — в настоящем или в воспоминаниях о прошлом.
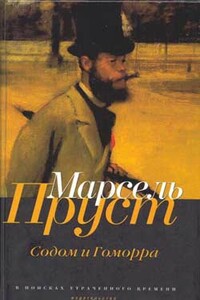
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
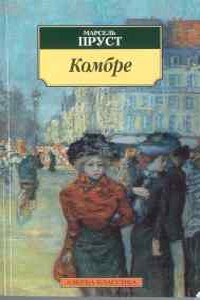
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.

«…Итак, желаем нашему поэту не успеха, потому что в успехе мы не сомневаемся, а терпения, потому что классический род очень тяжелый и скучный. Смотря по роду и духу своих стихотворений, г. Эврипидин будет подписываться под ними разными именами, но с удержанием имени «Эврипидина», потому что, несмотря на всё разнообразие его таланта, главный его элемент есть драматический; а собственное его имя останется до времени тайною для нашей публики…».

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».
